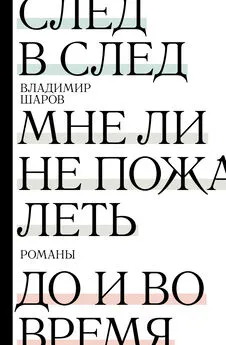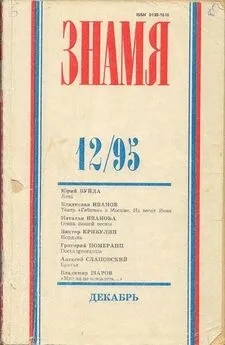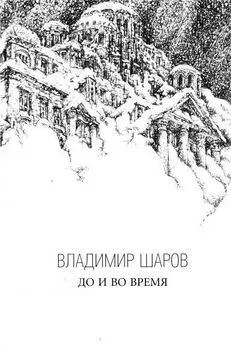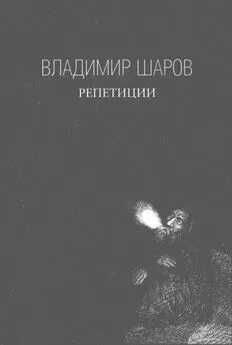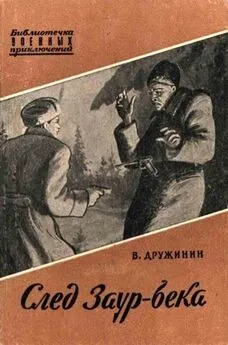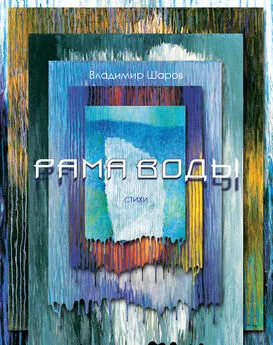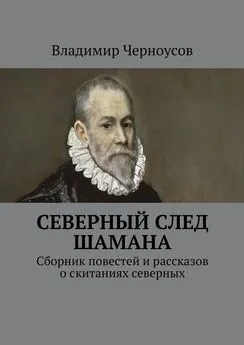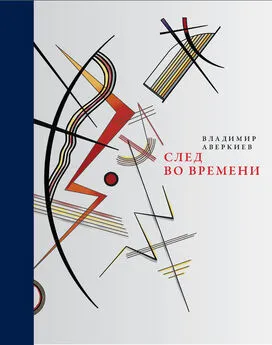Владимир Шаров - След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время
- Название:След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-146011-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шаров - След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время краткое содержание
Во всех его романах – или, скорее, философских притчах – семейная хроника неразрывно соединена с историей страны, а библейские мотивы переплетаются с темой Революции.
В настоящее издание вошли романы «След в след», «До и во время» и «Мне ли не пожалеть».
След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
От эсеров он слышал сотни и сотни народнических преданий, никем и никогда не записанных, у него была изумительная память, он знал, начиная с первой «Земли и воли», историю всех споров и разногласий среди народников, знал все обстоятельства покушений и судебных процессов: чтоˊ говорили обвиняемые, чтоˊ – защита и прокурор, знал приговоры: ссылка, каторга, Петропавловская крепость, казнь, – и кто шел на эшафот под своей фамилией, а кто так и умер, не назвав себя. Он мог часами рассказывать о Каракозове, Нечаеве, Халтурине, Морозове, Фигнер, Желябове, Кибальчиче. Он справлял их именины, отмечал даты смерти, он жил в той эпохе, среди тех людей, и всё, бывшее тогда, было для него едва ли не реальнее нынешнего. Близкие Сергея говорили мне, что в пятидесятые годы он был, наверное, лучшим знатоком народничества, и не случайно некоторые московские и ленинградские историки приезжали к нему в Пензу, где он жил после лагеря, для консультаций.
Но больше всего Сергей чтил не людей, которых я перечислил, а Николая Васильевича Клеточникова, тайного агента народовольцев в Третьем отделении, сообщавшего им обо всех планах полиции, предупреждавшего и спасавшего их. Почему именно Клеточников так привлекал его, неизвестно. То ли особенностью своей роли, то ли тем, что был старше и неизлечимо болен. Кажется, то, что делал Клеточников, и его возраст, и болезнь, и быстрая – в течение нескольких месяцев после приговора – смерть в Петропавловской крепости от голодовки, и последующий кризис «Народной воли», – всё это легко соединялось им, акценты смещались, Клеточников становился отцом, а те, другие, его детьми, он защищал их и хранил, и умер, когда помочь уже больше не мог.
Еще в курганской тюрьме его удивлявшие сокамерников настойчивые расспросы о Клеточникове – по их памяти о своем детстве, он мог интересоваться так кем угодно, только не им, – породили длинную цепь споров о тайных агентах революционеров внутри полиции и полиции среди революционеров. Эти споры вертелись почти всегда вокруг Судейкина, Дегаева, Азефа, и некоторые из них Сергей хорошо запомнил. Один из сидевших с ним эсеров, Валентин Платонович Старов, человек со странным, без ресниц и бровей лицом, даже подготовил семь тезисов об отношениях полиции и подпольной партии, которые потом долго обсуждались в камере.
Он утверждал:
Первое: между революционерами и полицией было много сходства – в обществе жандармы тоже были на свой лад изгоями, их презирали, ими брезговали, их служба считалась постыдной. И как изгои, и как чиновники, знавшие самые важные тайны режима, знавшие режим изнутри, они лучше других понимали гнилость системы и смотрели на нее почти так же, как революционеры.
Второе: народники и полиция зависели друг от друга, особенно полиция от народников – ее авторитет и положение целиком были связаны с ее успехами в борьбе с «Народной волей», но и успехи эти не должны были быть чрезмерными: успокоение в обществе, падение напряжения, ослабление опасности немедленно приводили к тому, что полиция сразу теряла свое влияние, правительство забывало о ней, а общество вновь третировало и презирало. Эта взаимосвязанность и совпадение интересов – полиции были необходимы народники, необходимы успехи, а не конечная победа над ними – стали основой их будущего – на беду, недолговечного – союза.
Третье: долгие годы борьбы один на один секретной полиции и народников, их узкая направленность друг на друга привели к тому, что они всё больше повторяли и дополняли, всё больше сходились между собой, пока не стали как бы зеркальным отражением друг друга. Многие из народников 70–80-х годов были людьми выдающимися, боровшаяся с ними полиция тоже была по-своему выдающейся, в ней было много талантливых агентов и сыщиков, и, в общем, между революционерами и сыском всегда существовал паритет. Серьезного отрыва ни одна из сторон не добилась ни разу, каждое движение в этом противоборстве вызывало ответное, они всегда шли парами, как филер и объект его наблюдений.
Четвертое: Дегаев и Судейкин первые поняли, что никакого зеркала между полицией и народниками нет, что они нужны друг другу и должны объединиться.
Пятое: боевики, которые были выданы Дегаевым, Азефом и другими провокаторами и погибли, знали, на что шли, в массе своей они были рядовыми бойцами и легко заменялись. Победы без жертв не бывает, кроме того, нет никаких данных, что до Азефа число арестованных было намного меньшим. В любом случае в сравнении с деятельностью партии, которая никогда не была такой успешной, как при Азефе, число это никак не выглядит чрезмерным. Вне сомнений, союзная деятельность полиции с народниками, а потом эсерами, совместная подготовка ими целого ряда покушений в огромной степени расширяла возможности террора и одновременно дискредитировала правительство, ослабляла и разлагала власть.
Шестое: наличие провокаторов в подпольной партии всегда велико и неизбежно. Провокаторы легче и быстрее делают партийную карьеру. Полиция может и широко помогает им в приобретении репутации (успешные акции, побеги), основных соперников своих людей она легко дискредитирует или просто изымает с помощью арестов. Естественно, такое положение трудно назвать нормальным, но партия, находящаяся в подполье, и не может сковывать себя нормами – слишком опасно и неустойчиво положение. В условиях подполья лидеры партии, пускай даже ставшие ими с помощью охранки, – действительно наиболее успешные и полезные ее члены. Они нуждаются во всемерной защите, и следует признать, что деятельность известного Бурцева и помогавшего ему директора департамента полиции Лопухина, разоблачивших Азефа, с одной стороны, нанесла страшный удар по престижу партии, а с другой – укрепила правительство.
И, наконец, седьмое: все революции начинались как провокация охранки, но дальше, если почва была подготовлена – суть именно в этом, – события выходили из-под контроля полиции и народ побеждал.
Еще в конце осени сорок второго года по многим признакам стало видно, что передышка, дарованная войной, кончается. Первым начали водить на допросы Сергея. Следователь вел дело вяло, расспрашивал его, как он попал в спецдетдом, как оказался в женском эшелоне, заговаривал и о сокамерниках, но интересовался больше не политикой, а что за люди. Эсеры готовили Сергея к допросам, и он то ли благодаря этим урокам, то ли из-за мягкости следствия держался, кажется, хорошо. В августе сорок первого, незадолго перед тем, как Сергея посадили к ним в камеру, эсеры решили использовать то, что они собраны в одном месте, и провести первую за последние десять лет партийную конференцию внутри России. Появление Сергея и правила конспирации остановили эти планы, теперь, когда его почти каждый день водили на допросы, конференция снова стала возможной и была открыта 30 ноября 1942 года. Всего состоялось шесть заседаний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: