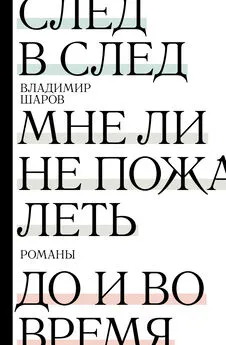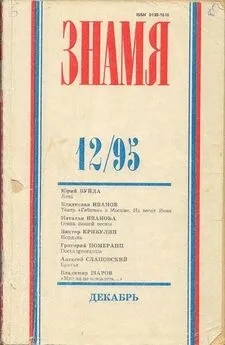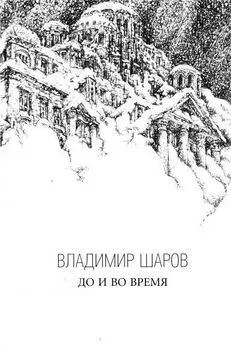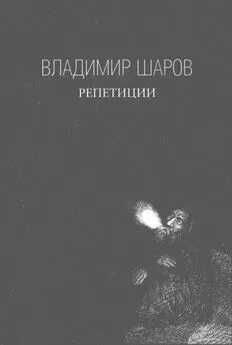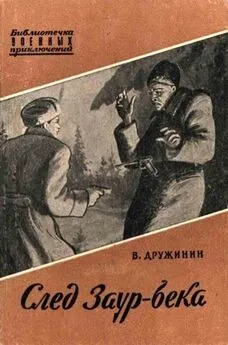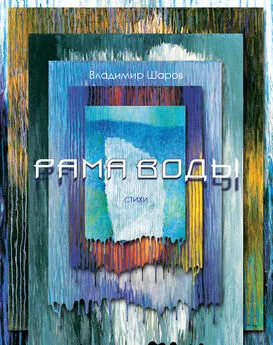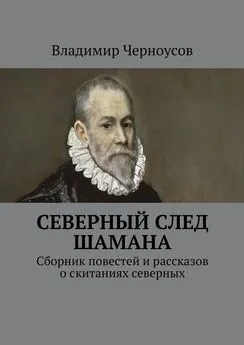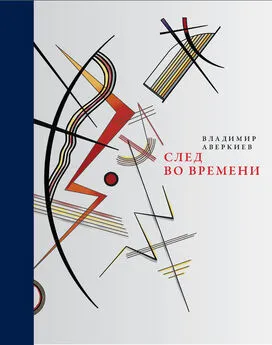Владимир Шаров - След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время
- Название:След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-146011-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шаров - След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время краткое содержание
Во всех его романах – или, скорее, философских притчах – семейная хроника неразрывно соединена с историей страны, а библейские мотивы переплетаются с темой Революции.
В настоящее издание вошли романы «След в след», «До и во время» и «Мне ли не пожалеть».
След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В одном из последних писем Шейкемана к Феодосию (кажется, оно даже не было послано, в фонде Феодосия его нет, а в фонде Шейкемана я нашел только многократно переправленный черновик) Шейкеман снова, после десятилетнего перерыва, возвращается к начальной истории евреев и пишет: «Завет Бога с Авраамом, Исааком, Иаковом, со всем еврейским народом вечен, так же как он вечен с каждой частью этого народа, с каждым евреем. Воскресение в Ветхом завете не индивидуальное, а родовое. Человек воскреснет с родом, он воскрешает своих предков и воскреснет в своих потомках. Вечный Завет с Богом нигде не должен прерваться, ничей род не должен кончиться и оборвать Завет. Семя погибшего должно быть восстановлено его братьями, нить должна быть соединена и идти дальше».
Второй темой, которой Петр Шейкеман долго и внимательно занимался, была история России. Под Шипкой, а потом в лазарете история России стала и его историей, его стала вера, народ, страна, и все-таки он был еще чужак, а дочь его Ирина, плоть от плоти его, была уже своя, была частью, и, как я теперь понимаю, он изучал историю России как историю ее, Ирины, как ее прошлое. Кажется, себя он считал точкой, где ломается линия, точкой перелома, кончившей собой одну жизнь и начавшей другую. Завет с Богом, в котором жили его предки три с половиной тысячи лет, был им прерван, он отсек и был отсечен от него. Началом другой жизни была Ирина.
Я уже говорил, что свою дочь он любил безумно. Вся его жизнь после рождения Ирины была подчинена ей. Буквально каждый шаг, сделанный им после смерти жены, легко объясним, если мы поставим перед ним: «для Ирины». В то же время в его отношениях с ней был страх, этот страх шел от убеждения, что на нем всё должно кончиться. После смерти Наташи Ирина дважды тяжело, почти безнадежно болела, и оба раза Шейкеман находился на грани умопомешательства. В дневниках не только в это время, а почти на каждой странице он обвиняет себя, что не ушел в монастырь, как собирался, что послушался Феодосия и женился.
Убеждение, что он проклят, никогда не оставляло его. Иногда в конце этих обвинений он приписывал доводы-вопросы в пользу того, что Ирина все-таки будет жить: переправа через Дунай, Шипка, почти все погибли, а меня Господь спас – почему? Врачи говорили, что ранение у меня смертельное, а я выжил – почему? Однако даже в самые светлые для него периоды жизни – выздоровление Ирины, ее брак с Иоганном Крейцвальдом, рождение внука Федора – записи за это время он потом, в конце жизни, очертил красными чернилами и на полях обозначил: «По-видимому, Господь простил мой грех», – так вот, и в эти дни он не верил, что Господь действительно простил его, а думал, что Господь лишь смягчился к нему.
Молясь об Ирине, Шейкеман по-детски хитрил: никогда не называл ее дочерью, прятал ее имя среди имен других людей, за которых молился, в том числе двух Ирин. Самой Ирине он почти ничего не рассказывал о своей жизни до крещения, это была запретная тема, и Ирина, несмотря на то, что правила отцом самодержавно, не смела ее касаться. Прошлое он отсек и за себя и за тех, кто будет после него.
Ирина почти не помнила рано умершую мать, а Шейкеману нужно было, чтобы она связывала себя только с Наташей, продолжала только ее, это было главной его целью, на это он ставил, пытаясь спасти Ирину. Он всегда, во все времена своей жизни, от смерти жены до своей смерти, исходил из того, что родство с ним несет Ирине гибель, а родство с матерью – спасение. В дневнике на второй день после ее похорон он записывает для себя, но надеясь, что и не только для себя: «Если бы у меня был сын, он бы наследовал мне; Ирина дочь своей матери – и только». Один воспитывая Ирину, Шейкеман выставлял себя лишь посредником между умершей матерью и Ириной. Всё, что было в жизни Ирины хорошего, всё, что, как замечал Шейкеман, тронуло, обрадовало ее, приписывалось матери, мать или сама делала и говорила ей это, или, не успев, умирая, завещала Шейкеману.
Кроме такого «посредничества», Шейкеман, пытаясь связать Ирину с матерью, рассказывал о ней сотни разных историй. В конце концов для Ирины эти истории превратились в главную часть дня, без них она отказывалась ложиться спать, их ждала весь день. Прожив с женой только два года, Шейкеман, в сущности, знал ее довольно плохо, тем легче ему было придумывать. Через год в дневнике он записал, что совсем не помнит Наташу, что то, что он рассказывает Ирине, подменило ее. На исповеди он каялся в этом Феодосию, и тот сказал, что это большой грех, и наложил на него епитимью. Однако прекратить рассказы ни Шейкеман, ни его дочь уже не могли.
О взрослой Ирине сохранилось много разного рода свидетельств. Ее знали, ей посвящали стихи, но на первые роли она так никогда и не вышла, даже в теософских обществах, которые сама организовывала. То, что есть о ней и в письмах и в воспоминаниях, очень кратко. Это небрежение, кажется, связано не с ее собственной неяркостью, а с быстро наступавшей усталостью, период запала почти сразу сменялся апатией, и она уходила в тень. Нигде она не успевала утвердиться и так и осталась везде или как Ирина, или под инициалами И.Ш. Была она, пожалуй, красива, но лицо ее портили резкость и нервность, черты лица были беспокойны, быстро менялись, то, что она думала, сразу отражалось в них, и эта занятость лица мешала ей. Быстрая усталость была в ней от внутренних неурядиц, о которых она никогда не могла забыть. Всё же иногда она отвлекалась, переставала думать и терзать себя, и сразу ее тонкое подвижное лицо становилось мягким и плавным, в нем появлялась удивительно красившая ее медленность полной женщины, она становилась похожа на свою мать и была тогда необычайно хороша. В нее были многие влюблены, и все видели, помнили, знали именно эти минуты. С раннего детства она была очень нервной, эта нервность потом усилилась и перешла в болезнь. С пятнадцати лет за ней наблюдал Ганнушкин, и только благодаря ему она не стала постоянной пациенткой нервных клиник. Крови, которые сошлись в Ирине, были чересчур разные, они не смешивались и мучились в ней.
Она была влюблена в отца, преклонялась перед ним, и в то же время, будучи сама истовой христианкой, она, сколько себя помнила, считала его еретиком, не верила в его православие. Почти всю свою жизнь до замужества она провела в Сергиевом Посаде, среди стоящей над всем и всё организующей монастырской жизни, с пяти лет она каждый день с отцом отстаивала целиком обедню, с тех же лет пела в хоре. Эта жизнь – с перезвоном колоколов, с обычными и праздничными службами, с пением, молитвами, ладаном и свечами – была ей привычна, и она не сомневалась, что, когда вырастет, уйдет в монастырь, будет молиться за отца и спасет его. Иногда она плакала, что ни от чего не отказывается, ничем не жертвует, что сама хочет этой жизни. Позже, когда ей исполнилось шестнадцать и отец определенно высказался против ее ухода в женский Спасо-Евфимьевский монастырь, она начала думать о нормальной, обычной жизни, начала хотеть ее, за что потом, довольная, корила себя и каялась; всё равно она была уверена, что уйдет в монастырь, – но теперь ей было радостно, что она уйдет не с пустыми руками, что ей есть, чем жертвовать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: