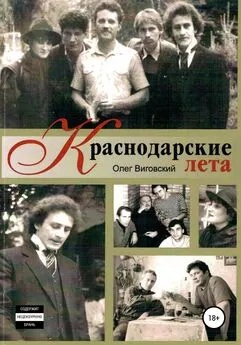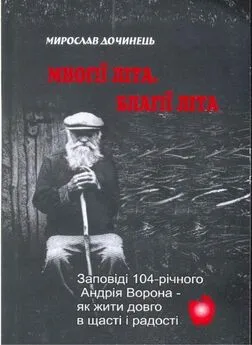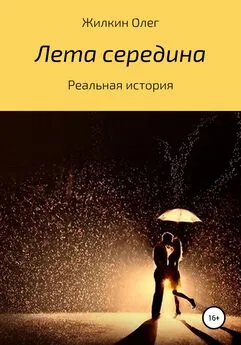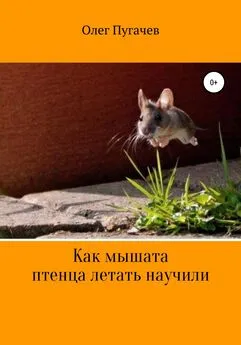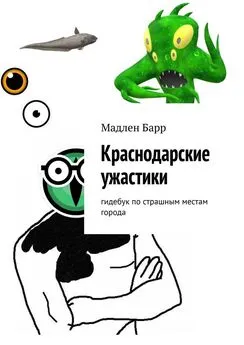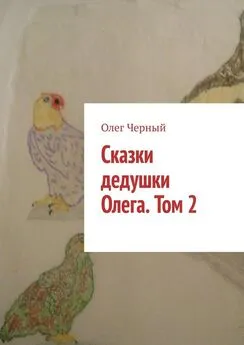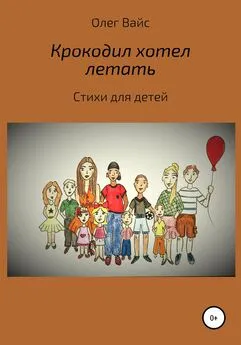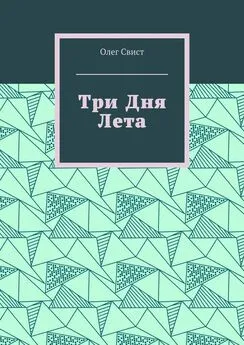Олег Виговский - Краснодарские лета
- Название:Краснодарские лета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Виговский - Краснодарские лета краткое содержание
Содержит нецензурную брань.
Краснодарские лета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из мальчишек нашего класса книги читала едва ли половина. Большинство предпочитало телевизор, кино, танцплощадки (выпивка, курево, попытки знакомства с девчонками из другой школы, 10-й чаще всего, как следствие – драка), футбол и мопеды. Когда вышел в прокат фильм «Не бойся, я с тобой», половина нашего класса смотрела его вечером в кинотеатре «Аврора», а утром следующего дня на первый сеанс вместо уроков пошёл уже весь класс, мальчишки и девчонки. Пришли в школу (тридцать человек) к третьему уроку. Налетела «кобра» (наша классная руководительница):
– Где были?!
– В «Авроре», на «Не бойся…»!
– А.. Ну тогда ладно… Теперь бегом все на алгебру!
Я занимался фортепиано в музыкальной школе, несколько раз бросал и снова возвращался. Ещё полгода походил на бокс, потом на дзюдо. Закончил бальными танцами, в 9-10 классах. Читал много, сколько себя помню. Азбуку выучил чуть ли не в четыре года, с пяти лет читал по слогам. Дома хватало книг; в частности, были полные собрания сочинений Пушкина и Лермонтова в одном томе, издательства А.Ф.Маркса, номера «Нивы», из которых бабушка читала мне рассказы лет до шести (потом я уже обходился без чужой помощи). Поэтому не понимаю людей, которые говорят: ой, эта книга с ятями, читать неудобно… У меня сложностей не было – ни с ятями, ни с ерами. Со второго класса записался в библиотеку братьев Игнатовых, потом в Некрасовскую и Пушкинскую. У мамы на работе, в ДК ЗИП, тоже была библиотека, там работала мамина подруга, пускавшая меня в хранилище. Ещё были родственники и знакомые с хорошими домашними библиотеками.
К девятому классу прочитал всего Дюма, Жюля Верна, Уэллса, Майна Рида, Конан Дойла, а также Шекспира, Бальзака, Стендаля, Гюго, Мериме, Мюссе и многое другое. Есть разница между «Всадником без головы» и «93-м годом», но мне всё было интересно. Детективы и советскую фантастику читал, но больше по случаю. Про русскую классику не говорю: её я освоил как-то незаметно; после всего Пушкина и Лермонтова это произошло само собой. Меня не испугали ни «Пётр Первый», ни «Война и мир». Наоборот, я был рад, что тома такие толстые – надолго хватит! «Преступление и наказание» именно со школьных времен – один из любимых моих романов.
Стихотворения запоминались сами, многие поэмы тоже, другие «отхватывались» большими кусками. Наизусть знал «Полтаву», «Медного всадника»; «Евгения Онегина» постоянно забывал в разных местах, но после подсказки продолжал почти с любого места; «южные» поэмы не любил – слишком «романтичный» романтизм, Пушкин ценен другим; все «Маленькие трагедии», «Демона», «Анну Снегину», «Пугачёва» (вообще почти всего Есенина); многое из Маяковского (сейчас терпеть не могу); многое из Блока (и сегодня один из любимейших, хотя с большим разбором). Некрасов не был интересен (и до сих пор), учил, помнил, давно забыл. «Серебряного века» тогда в школьной программе было мало (Блок – особый случай, к «серебряному веку» подверстывается туго). Ахматову, Пастернака воспринимал более или менее (сегодня тоже), Цветаеву – нет. И сегодня даже, если общаюсь с человеком и узнаю, что он любит Цветаеву – стараюсь отойти подальше, от греха. Вот чего я ещё не понимаю: когда человек говорит, что ему трудно выучить стихотворение наизусть. Так говорит лентяй – в лучшем случае. В худшем – слабоумный; третьего не дано.
На уроках литературы я откровенно скучал и читал, что хотел, под партой, а потом и в открытую. Сначала мне делали замечания и вызывали к доске, но быстро перестали заниматься ерундой. Хотя доводилось мне и «двойки» получать за невыученные уроки – когда задавали «Как закалялась сталь», «Что делать?» и «Малая земля». Это был, конечно, подростковый выпендрёж – мог бы я все эти книги прочитать, ничего бы со мной не случилось. «Что делать?» до сих пор не прочитал, хотя знающие люди говорят – надо.
Помню такой курьёз. Классу задали выучить наизусть и прочитать на уроке какое-нибудь стихотворение из «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля. Я, мой друг Андрей Коваленко и ещё трое наших одноклассников, с моей и Андрея подачи прочитали нашей «русичке» Дине Сергеевне 66-й сонет Шекспира в переводе Маршака (дрянном, но самом известном). Уверен до сих пор: она ничего не заподозрила. Потом на заднем дворе школы курили и хохотали, умники, называли учительницу дурой… Под влиянием Шекспира сам начал писать сонеты – точнее, стихотворения из 14-ти строк. Что такое настоящий сонет, понял только годам к двадцати (многие мои знакомые и к пятидесяти годам не поняли). В двадцать один год (по моему мнению, очень поздно) впервые услышал по радио Бодлера. Читали «Le voyage» («Путешествие»), оно меня поразило, несмотря на то, что услышанный мной перевод был угловатый, манерный, крикливо-бабский. Что-то там говорят про сложный период в жизни переводчика, про то, что его реминисценции якобы только обогатили оригинал, что это, мол, уже факт русской культуры… Бред. Личные сложности – они личные и есть, при чём тут читатели? Реминисценций должно быть в меру, и только если они проясняют авторский замысел – иначе это заплатки на чужом кафтане. Факт культуры… Много всяких фактов есть, поменьше бы некоторых. Мужественный трагизм – это одно, истеричный словесный понос – совсем другое. Слава Богу, скоро нашёл настоящий перевод – Вильгельма Левика. В его переводах Бодлера воспринимаю лучше всего. Мастер – что тут скажешь!
Но всё это случилось много позже, после первого курса института культуры и армии. В старших классах школы у меня не было друзей-единомышленников (совместные походы на рыбалку, распитие пива и курение за гаражами, конечно, не признак общности духовных запросов). Естественно, что в 9-10 классах я остро ощущал свою исключительность. Это ощущение само по себе было обосновано, но вот его размеры… Много позже прочитал высказывание Петрарки (цитирую по памяти): «В это время я начал уже приобретать известность, и многие достойные люди искали знакомства со мною, чему сегодня я удивляюсь, но тогда воспринимал как должное, ибо, по обычаю молодости, считал себя достойным всяческих почестей». Прибавить нечего. Разве только то, что не у меня одного, оказывается, были такие ошибки юности…
8. Мальвы у плетня
В 80-х гг. литературная жизнь Краснодара была блёклой. В периодике печатались из номера в номер местные мэтры так называемого военного поколения – их можно было пересчитать по пальцам. Практически все они писали в манере «социалистического реализма» и были явными дилетантами, но при отсутствии конкуренции считались выдающимися поэтами и прозаиками. В литературу пришли случайно, на юношеском кураже и желании что-нибудь сделать, всё равно что. Один из мэтров, Виталий Б., так рассказывал о первых послевоенных годах в Краснодаре: «Мы были мальчишками, только что с войны. Собирались в редакции, спорили, выпивали, писали поэмы. Бывало, начнешь писать поэму и сразу публикуешь начало, ещё не зная, что дальше будет, дальше ещё не написано ничего…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: