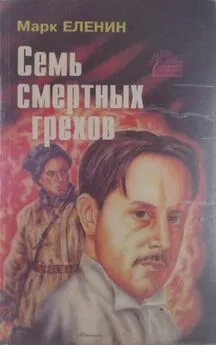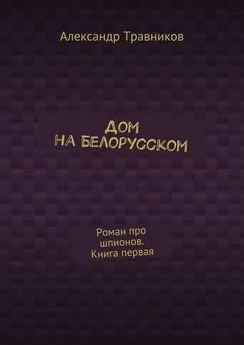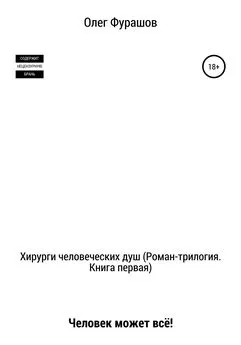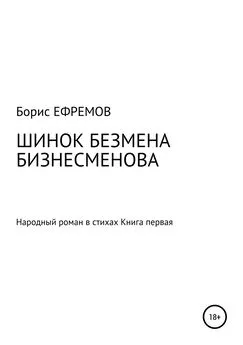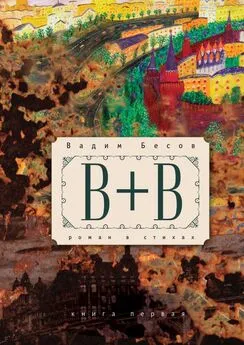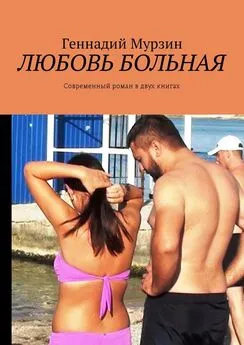Александр Иванченко - Камбала. Роман в двух книгах. Книга первая
- Название:Камбала. Роман в двух книгах. Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005388261
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Иванченко - Камбала. Роман в двух книгах. Книга первая краткое содержание
Камбала. Роман в двух книгах. Книга первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Только с одной пожилой сухонькой и маленькой, как «божий одуванчик» женщиной, проживающей по одному коридору наискосок у меня, по её инициативе были деловые отношения. Они заключались в том, что я дважды в месяц писал письма её сыну, служившему на самом юге нашего необъятного Союза, в п. Кушка, Туркменской ССР и один раз месяц посылочку с не хитростными домашними, а по сути купленными припасами на рынке, типа сала, чеснока и кое-каких вещей, собранных заботливыми материнскими руками. Я содержимое не видел, но заботливая мама офицера-пограничника, охраняющего южные рубежи нашей, тогда еще большой Родины добродушно об этом рассказывала.
За мою помощь она меня от души благодарила шоколадкой и что было под рукой, конфетами, печеньем или яблоками. Я выполнял ответственную работу, писал на посылке адреса мест отправки и назначения.
В субботу святым делом было посещение городской бани, расположенной в аккурат на этой же ул. Чкалова в сторону «Военведа». Военное ведомство – я так понимаю расшифровку этого сокращения. Это поселок, представляющий собой военный городок военных авиаторов, с ее инфраструктурой, квартирами, конечно, аэродромом и с пропускным режимом. В воскресенье я любил просто «убивать» время прогулками по городу и его окраинам – поселкам, имеющих свои названия: Старый, Новый, Тимирязева, Дубки, Военвед я уже назвал и «Питомник» выпадал из общего контура города, расположением в непосредственной близости к садам и виноградникам.
Городок небольшой, мне нравился тем, что был очень похож на мой родной районный центр Матвеев Курган, именно застройкой частного сектора поселков, привычным, совсем не городским чаще, а сельским образом жизни. Центральная площадь имела точную копию типового строения зданий Дворца культуры и такого же памятника В. И. Ленину, с разницей, что здесь он был установлен боком в ДК, а у нас спиной.
Наступила золотая осень. Произошла адаптация к учебному процессу, как в армии «курс молодого бойца». Кто-то не выдержал резкого изменения нагрузки и просто бросил учёбу, кто-то по другим причинам забрал документы или перевелся на заочное обучение. Но, как бы то не было, в общежитии появились свободные места.
Сначала, юркий Поль смог устроиться в общагу, а следом и я влился в круглосуточную жизнь своей группы. Это была небольшая, но важная победа, как всё равно вступление «единоличника» в колхоз в далёкие 30-е годы.
Учился я в 5 группе, которую, скорее из-за этой «пятёрочки» мы сами называли «гвардейской». Кроме того, свою комнату №21, мы также прозвали «гвардейской», т.е. она уже была «дважды гвардейская». Бесхитростные комнаты, где помещались всего четыре кровати с тумбочками и встроенный шкаф. Моя кровать у окна с батареей отопления. Первый этаж, кухня, туалет и работающий на все три этажа буфет.
Общага пробуждалась по нарастающей, как звук приближающегося самолета дальней авиации, но каждый стук дверью отдавался не только на перепонки слухового аппарата, где быстро утихал в лабиринтах спящего студенческого мозга, с двумя-тремя извилинами, чаще всего. И-то, желание учиться у большинства не укладывалось в объёмы памяти этих извилин. Главная из них, в первую очередь, как «линия жизни» на руке, отвечала за ту функцию, которая в первую очередь продлевала нашу жизнь, за «поиски» пропитания. Конечно, городские студенты, из престижных или лучше сказать обеспеченных семей могли и тогда себе позволит то, что нам и не снилось. Но их было единицы. А основной состав общаги – простые деревенские пацаны, выбор специальности которых не случаен – любовь к земле, к сельскому хозяйству.
Пик шума в общаге приходился на промежуток времени от 07—40 до 08—10, напоминающий одновременно: гул пчелиной пасеки с таким же хаотическим движением, в основном, бегом, как у пчёл; шум оборудования кузнечно-прессового оборудования, от стука видавших виды дверей и падающих от спешки предметов, включая и тела крепко спящих студентов, которых товарищи, убегая на пары, «поднять-то-подняли, а разбудить забыли» – они грохались, в лучшем случае опять на кровать, вдоль или поперек и продолжали досматривать сладкие сны; смешение двух миров – «мира мёртвых», а вернее – зомби, плавно выползающих по стенам, с растопыренными руками и широко расставленными ногами, передвигая их скольжением по полу коридора и другой, взаимно-противоположных млекопитающих, явно из другого мира – мира «пучеглазых лемуров», но в отличие от них, быстро движущихся, сбивающих всех и все подряд для достижения единой цели – успеть, во чтобы то ни стало на первую пару.
Когда «час пик» в общаге сходил на нет, наступала такая тишина, что можно было через дверь, не открывая её понять, в какой комнате остался студент досыпать, не только по храпу, даже по сопению. Как сладок этот сон, когда твои товарищи, нехотя разворачивают свои затасканные, чаще всего, смятые трубочкой, общие тетради с конспектами – понимает только тот, кто испытал эту негу на видавшем виды матрасе и обтянутой, чуть ли не до пола сетке, и, чаще всего, с подушкой-«глушителем» на голове.
Если чуть подробнее рассказать то, как протекало время между подъёмом и началом занятиями, то для среднестатистического студента это было так. Подъем 07—45…07-50. Подъём дружным никогда не был, кроме, когда, кто-то, первый, открывший, свободный от замусоленной подушки глаз, заорёт, как дневальный в армии, но не «подъём!», а «проспали!!!». Тогда, все, принявшие мужское решение – идти на первую лекцию, потому что будет проверка из деканата, «перекличка», если иначе, начинают друг друга сбивать и хватая на ходу все, что успеют, выбегают, как поток вырывается из водопроводного трубопровода на свободу улицы, разделяющей общежитие и новый, выстроенный при нашей уже памяти четырёхэтажный корпус института.
Если же пробуждение происходило плановым порядком, то за ним следовали: туалет, одевание, посещение буфета и принятие «первого завтрака», если есть за что (как правило меню составляли две вещи: пирожок с повидлом – 5 коп. или с картошкой – 4 коп, а когда «богатый «Буратин», то и беляш за 13 коп.!, а к ним или чай, что чаще за 2 коп. или «кофе с молоком» – какао за 4 коп., реже, но когда «душа горит» – томатный сок идёт изумительно со щепоткой соли).
«Проплыв» мимо дежурной по общаге через дверной проём, двери в который открывает только первый, самый сознательный студент, а потом она только срабатывает, как счетчик на колесе велосипеда, делая скрипучие отклонения, в результате воздействия могучих и не хилых плеч движущейся живой массы. Сделав глубокий вдох, действующий, как допинг, от которого даже могла закружиться голова, следующий вдох необходимо было сделать уже вместе с дымом, прикуренной на ходу сигареты. Как правило, во время движения от общаги до входа в институт, расстояние-то всего 20—25 метров, звенел противный звонок на занятия и ещё, желательно было докурить до «Ростов-на-Дону» – надписи на сигарете, а «самое вкусное», от надписи до фильтра или момента, когда пальцам горячо, уже, столпившись на входе. Выбросить окурок под решетку, для очистки обуви на входе и… хорошо, если занятия в этом корпусе (кафедра «Деталей машин» и сопромата на первом этаже, ОРЗ и иностранного языка на 3-м, а «Военной подготовки» на четвертом).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
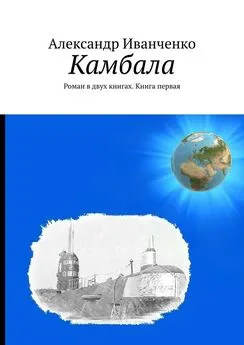
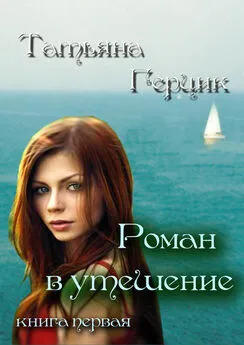
![Юрий Леж - Искажение[СИ, роман в двух книгах]](/books/415543/yurij-lezh-iskazhenie-si-roman-v-dvuh-knigah.webp)