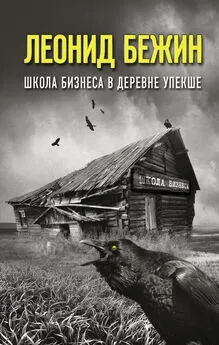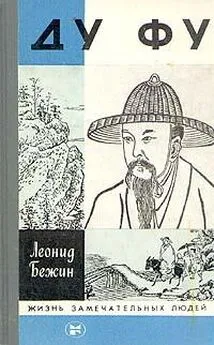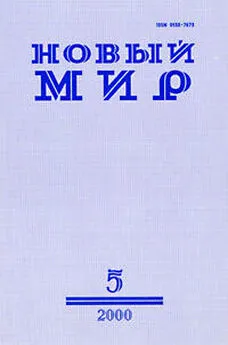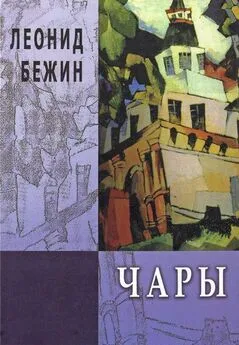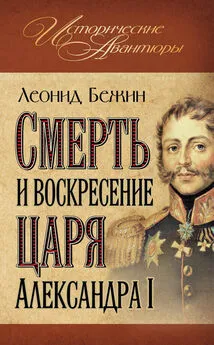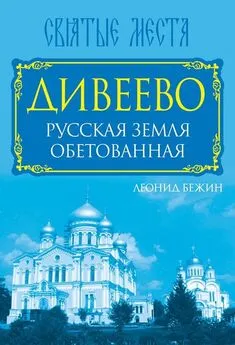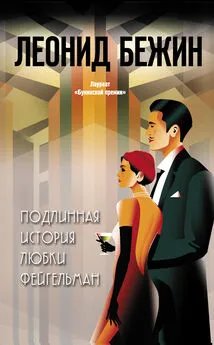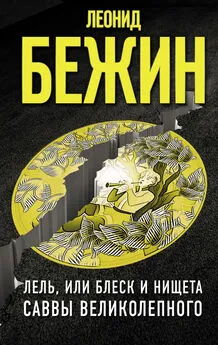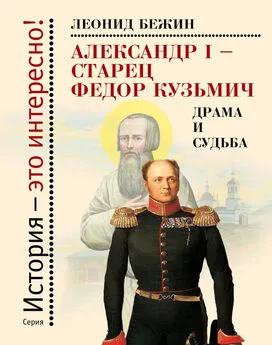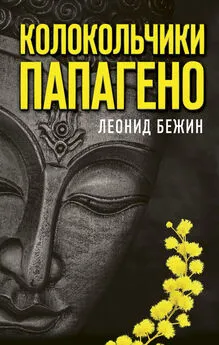Леонид Бежин - Школа бизнеса в деревне Упекше
- Название:Школа бизнеса в деревне Упекше
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-135678-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Бежин - Школа бизнеса в деревне Упекше краткое содержание
Школа бизнеса в деревне Упекше - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Причем, стригся он коротко, до белобрысого ежика, и носил серьгу в ухе, хотя та же Ксения Андриановна пренебрежительно фыркала на это и за глаза ругала его за дурной тон.
По другой версии (мною не проверенной), носил не серьгу, а фиксу на зубе, поставленную нашим дантистом Слободаном Деспотом, сербом по национальности, чью фамилию предпочитали лишний раз не произносить, чтобы не возникали нежелательные ассоциации: фикса фиксой, но какие могут быть деспоты в союзе нерушимом республик свободных…
Но все-таки и Слободан, и Матрена Ивановна, и Ксения Андриановна не раз и с самой изысканной дикцией выговаривали, что чистить ботинки в коридоре – это именно западло. И не только потому, что после чистки (к счастью, не партийной) на весь коридор скипидарно воняло гуталином, но и потому, что коридор – так же, как и кухня с закопченными, засаленными примусами, и жуткая, пещерная, неандертальская, запиравшаяся на огромный ржавый крюк уборная (не путать с концертмейстерской уборной, где гримировалась Ксения Андриановна) были общественной или коммунальной собственностью – в отличие от комнатушек, почему-то называвшихся у нас квартирами.
О комнатушках каждый мог сказать: «Моя квартира», а о коридоре – нет, поскольку он в равной мере принадлежал всем. А кроме того, в коридоре висел телефон с огрызком карандаша на шнурке (все обои вокруг были исписаны телефонными номерами). И если звонили не тому, кто мимоходом брал трубку, то он, положив ее на круглый столик, стучал кулаком в дверь чужой квартиры: «Вас к телефону», или даже: «Вас к аппарату». И каждому было ясно, к какому именно аппарату его вызывают и что этот аппарат не какой-то неведомый и загадочный (мало ли на свете разных аппаратов), а вполне обычный, с крутящимся диском, циферками и буковками. Хотя буковки потом упразднили…
Словом, телефон.
И говорили по такому телефону – не взирая ни на какие протесты («Голубушка Матрена Ивановна, нельзя ли покороче? Я жду звонка из филармонии») – иногда часами. И только Синяя борода по телефону никогда не звонил, и ему не звонили, словно и это было западло.
Поэтому какие уж там ботинки – никто бы не потерпел запаха гуталина или ваксы, а что еще важнее – посягательства на коммунальную собственность, оберегаемую столь же ревниво, как и прочие завоевания пролетарской революции, отгремевшей совсем недавно, всего-то двадцать лет назад (а это не срок для истории). Из этого следует, что и время было довоенное – тридцатые годы, когда меня еще не было и в то же время я уже – был.
Был отброшен некоей магической проекцией из пятидесятых в тридцатые или спускался туда на потайном лифте, как члены правительства – в особый, предназначенный только для них бункер (скажем, под самым Кремлем). Отброшен некоей нездешней силой – взрывной волной, поскольку мне страстно, непреодолимо хотелось знать, а что там было, в эти самые тридцатые. И я стремился совместить: было – не было, и совместить так, чтобы «не было» обратилось в «было».
Это казалось мне возможным – хотя бы на миг очутиться в желанном бункере, этом недоступном для всех прочих бомбоубежище. И пусть я, родившийся после войны, в сорок девятом, попал туда незаконно, я сознавал, что их – законных – почти всех убьют, разорвут на куски бомбами и фугасами. Или покалечат на войне, оставят вместо ног култышки, поскольку им так назначено по закону судеб и времен (сороковые следуют за тридцатыми, как дорогие спальные вагоны за дешевыми плацкартными).
Меня же одного – не убьют. Меня защитят подземные своды, толстые, непробиваемые стены бомбоубежища, и члены правительства под доносящийся сверху гул канонады будут ласково меня обнимать, гладить по голове и всячески внушать мне, чтобы с ними я ничего не боялся. Я же, допущенный в спасительный бункер и обласканный членами правительства, буду жадно глазеть по сторонам и стараться все запомнить, чтобы, вернувшись в свои пятидесятые, рассказать об этом, как я рассказывал о чем-то случившемся во дворе или на улице тем, кто не мог этого видеть, потому что безвыходно сидел дома («Я сегодня не выхожу»).
Вот в чем секрет того, что, расспрашивая о довоенных тридцатых мать, отца и соседей, я внезапно прерывал их и принимался взахлеб рассказывать сам, и с такими подробностями, о каких они и не подозревали, и поэтому лишь удивлялись моей подсказчице-фантазии. И им было невдомек, что я вовсе не фантазировал, а в отличие от них доподлинно знал то, что им было известно лишь понаслышке. Ведь они воспринимали все в горизонтальном измерении, плоско и однозначно. Мне же, спускавшемуся в потайной бункер, была доступна таинственная вертикаль.
Глава вторая
Немец по матери и русский по отцу
Однако хватит об этом: рассказ не обо мне. Сам я еще долго вообще не умел чистить ботинки, больше полагаясь на отца, настолько не принимавшего мои детские, с вечно развязывавшимися шнурками (завязать их на бантик у меня толком не получалось, и концы шнурков влачились, извиваясь змейками, по земле) ботинки всерьез, что он мог наскоро – двумя махами щетки – отзеркалить их до блеска. Делал он это в коридоре, возле столика с телефоном. И его никто не осуждал, и это никем не воспринималось как посягательство на священную коммунальную собственность.
Но это происходило уже в мои пятидесятые годы. Сейчас же, повторяю, речь не обо мне, а о другом… скажем так для красоты слова, еще неведомом избраннике, но только с русскою душой (стихотворение про избранника с русской душой нам задали выучить наизусть в красной кирпичной 94-й школе по Большой Молчановке, где я отучился четыре года). О русской душе нашего избранника уместно упомянуть, поскольку сам он если и не был чистокровным немцем, то фамилию носил немецкую – Браун.
Столь же уместно по этому поводу вернуться к упомянутому ритуалу и добавить, что и на лестнице у нас ботинки не чистили. На лестнице черного хода воняло кошками и мусорными ведрами. А на лестнице хода парадного было темно (а если ввинчивали лампочку, то мы, мальчишки, не успокаивались, пока не разбивали ее метко пущенным из рогатки камушком), и приходилось уступать дорогу тем, кто сам спускался и поднимался по ступеням или спускал и поднимал с собой велосипед, лыжи, детскую коляску.
Да и шика не было – махать щеткой на темной лестнице. В таком же деликатном деле, как ритуал, нужен прежде всего шик. Да, ботинки следовало чистить с особым шиком, и поэтому чистили их во дворе, на виду у всех. Умывшись, причесавшись и надев чистую майку с надписью «трудовые резервы», выходили во двор и выносили с собой щетку, баночку с гуталином и бархотку для наведения блеска. Ставили ногу на низенький заборчик, окружавший клумбу, на выпотрошенное, принесенное с помойки кресло или ящик из-под бутылок (подобные ящики китайской стеной окружали палатку для приема посуды) и – приступали к священнодействию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: