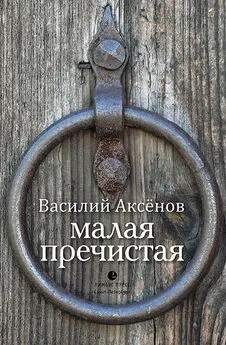Василий Аксёнов - Зазимок
- Название:Зазимок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-8392-0877-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Аксёнов - Зазимок краткое содержание
Зазимок - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мальчик отвлёкся от текста и отыскал глазами тополя. Взгляд его беспокоен. Растерян. Растерянность и беспокойство еле отличимы в постоянно натуженном выражении лица: всё что-то будто и припоминает. Мальчик уверен, что тополь – дерево. Всё на своих местах, всё как вчера и позавчера, как тысячу лет назад. Мальчик прислушался к себе, успокоился, поник тяжёлой головой и стал читать дальше:
«– А Митя тут при чём? – спрашиваешь ты и следишь за жёлтым листом, отлетевшим от чёрной, витиеватой ветви уже не молодого клёна. И удивительно и печально в безветрии утра листа падение: вздохнул и умер. И жалость, может быть, только там, в едва народившейся почке? „Жалость“ как слово, обозначающее чувство почки, в данном случае заменимо, но вариантов для замены не ищу. И понимаю: о чём-то другом, далёком, не имеющем ни ко мне, ни к саду отношения, мысли твои. И слушаешь ли? И столько глупого, пустого уже было сказано мной в эту ночь, а сколько ещё скажу! – что мне теперь всё равно, и говорю:
– А Митя тут вот при чём. Митя безрукий, и с умом скудно у Мити, словом, так, что и городьбы не наведёшь…»
Второго листа нет, а следующий лист отмечен сверху цифрой три. Мальчик рассеянно проводил глазами просеменившую мимо болонку. Болонка, из озорства наверное, потявкала на вывалившийся из круга клумбы кирпич и исчезла за кустами шиповника. Мальчик опять уставился на цифру три, после чего перевёл взгляд на первую строчку – и губы его задвигались, так, будто неохотно, лишь от безделья резиновым эспандером занялась невидимая рука.
«– У Мити, – говорю я, – левой руки нет по самое плечо, а о состоянии его мозгов я и сказать что-либо затрудняюсь. Потому, – говорю я, – потому, что сам Митя, с кем бы ни говорил, кого бы ни остановил среди дороги для беседы, всякого уверяет, будто в тот момент, когда ухнуло и когда старший сержант Готя Сирош, успевший произнести: „Ну, блямс, вот шо, рядовой сибиряк Митрей…“ – полетел в одну сторону, то он, Митя, подошвами сапог обратясь к тверди небесной, от взрыва вроде как и треснувшей, в другую – догонять руку свою, котелок так и не выронившую. А в конце беседы каждого Митя спрашивает, не видел ли тот, не слышал ли где чего про руку, с котелком летающую, вдруг. И смотрит пытливо на собеседника, и помогает ему припомнить: а на руке татуировка, мол, такая: солнце всходит, лучи пускает, и „СИБИРЬ“ большими буквами, а в котелке, дескать, каша гречневая и шмат тушонки в ней американской, и не вкусной и не запашистой…»
На этом прервалось. Треть листа снизу чистая. А номером следующего листа вновь оказалась тройка. Лоб мальчика съёжился. На носу и на толстенькой шее его выступил пот. Мальчик боязливо огляделся, затем начал читать:
«Митя здесь вот при чём. Был – у тебя, вероятно, тоже – был у меня, – говорю я и понимаю, что прервать, остановить себя уже не смогу, – был у меня в детстве конопатый приятель. Веснушки у него тесно, но весело ютились даже на пятках. Только на ногтях у него, наверное, не было веснушек, но не утверждаю, потому что тогда особенно не приглядывался, а теперь и не вспомню. И вот однажды мой конопатый приятель высказался примерно так:
– Людей на земле, парни, сиксильён, в самом большом-пребольшом муравейнике, клянусь смертью баушки, мурашей меньше, чем людей на земле.
Мы промолчали, представляя „сиксильён“ – как это много?
А потом мой приятель сказал:
– Я позавчерась, парни (было нам тогда лет по одиннадцать-двенадцать), на тятином велике катался… под рамой, здря свистеть не буду, – и всем нам по очереди разрешил дотронуться до шишки на своей вихрастой макушке: – Не упал, а тятя приголубил, козанком, как молотком, тюкнул.
За то, что восьмёрку, мол, поставил. Так объяснил нам, а затем добавил:
– А восьмёрка капитальная, хрен тяте из неё обратно нуль сделать. Новый обод пусть поищет, не фиг шишки на башке мне ставить.
И уж после этого, солидно затянувшись из краденных мной у моего отца папиросок „Север“, мы услышали:
– Баушка про Митю говорит, что таких контуженых, как он, на каждую сотню один свой, но контуженней, чем Митя, нету во всё белом свете… Она ему троюродная тётка, – выпустил Охра, задрав голову вверх, с присвистом из себя дым и продолжил: – Брешет, может, что уж самый… Митя ей, богомолке, шесть рублей ещё с прошлой Пасхи должен. А у Мити хвост скорее отрастёт, или рука заново, чем он про долг вспомнит. Лучше бы пряников и газировки мне на эти шесть рублей купила… или складник, – сказал так и отправил в небо ладное колечко дымное.
А про него, про внука, она, его бабушка, Аграфена Денисовна, говорила: „Вот змеёныш, вот де чинарик-то замызганный, трёх классов, шшанок, по-путнему ишшо не окончил, а курит, сопляк, взатяжку, просмолился, как старый хрен, дыхнуть в избе нечем, как на конюховке“. „Старый хрен“ – это она про деда. Дед его, Охры, Георгий Васильевич, и спал с трубкой в зубах, как с оберегом. Привык к ней, сросся с трубкой, а потому и чувствовать её переставал, как нос свой, скажем, или уши, а потому и терял её постоянно. Ищет, ищет, матерится, так что извёстка с потолка осыпается, а потом завернёт что-нибудь уж вовсе нестерпимое и закашляется – трубка изо рта у него вылетит, по полу забрякает, тем себя и обнаружит. И не только он, дед Охры, но и все домочадцы к трубке привыкли, всей семьёй иной раз её, с ног собьются, ищут, пока в дурных глаголах дед, хозяин трубки, не закашляется. И он, Охра, по имени Вовка, помогал частенько деду в этих поисках. Не за просто так, конечно. За деньги. На кино как будто, а на самом деле… ну, понятно, мало ли вкусного-то в магазине было. Дед на „вкусное“ не дал бы. Не давал и „на кино“. А для нас, мальчишек, тогда что контуженый, что дурак означало одно и то же. Было ещё одно слово: „дундук“. Мы и друг друга, если обиднее хотелось выразиться и злее, называли не дураком и не дундуком, а контуженым. И ещё как-то, ссорясь, называли мы тогда один другого, но не всем словам тут место. Одно на лету перенимали мы у зэков, бывших лагерников, работавших в Каменске и ожидающих разрешения выехать на родину или куда глаза глядят, другому, вовсе уж нецензурному, учил нас дед Андрей Хромов, облачившись в шапчонку, похожую на что угодно, только не на шапку, по большим праздникам – в кубанку, „пимы“, „куфайку“ и казацкие штаны с жёлтыми вылинявшими лампасами, ни днём ни ночью, как мы думали, не покидавший тогда завалинки своего дома, в раскрытое окно которого то и дело высовывалась бабка Марфа, девятая или десятая его жена, и, обмахнув ссохшийся рот уголком платка, кричала по своей и мужа глухоте на весь околоток: „В избу-то сёдня, матершинник, думашь-нет идти?!“ А от деда Андрея до неё и внимания было столько: ноль. А бабка Марфа и не ждала ответа, скажет должное, положенное рангом, освободит язык и канет там, в потёмках комнаты. Помолчит дед, пока неразборчивый гул бабкиного голоса в ушах осядет, почмокает мундштуком погасшей трубки в виде чёрта с его бесовским срамом во всех подробностях, а потом нам и заявит:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

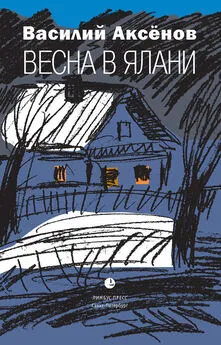



![Василий Аксёнов - Малая Пречистая [litres]](/books/1063328/vasilij-aksenov-malaya-prechistaya-litres.webp)
![Василий Аксёнов - Золотой век [сборник]](/books/1092960/vasilij-aksenov-zolotoj-vek-sbornik.webp)

![Василий Аксёнов - Время ноль [сборник]](/books/1099534/vasilij-aksenov-vremya-nol-sbornik.webp)