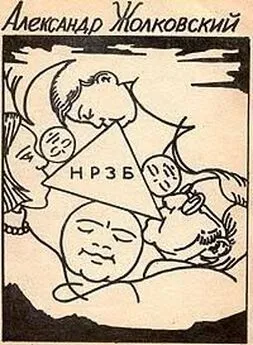Александр Жолковский - Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа
- Название:Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444814246
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Жолковский - Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа краткое содержание
Внимание! Книга содержит нецензурную лексику.
Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Астафьево – пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского – было… «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольнщики» и «бьюишники» котировались высоко, «фордошников» третировали. Мы принадлежали к последним… [В] Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, [но] некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание… 4 4 Гинзбург Е. С . Крутой маршрут. М.; Берлин, 2015. С. 34–35.
Ее коробит чванство более высокопоставленных коммунистов – иерархическое расслоение новоиспеченной аристократии, но ей и в голову не приходит задуматься о незаконности экспроприации княжеских поместий (Бармалей в фильме «Айболит-66» объявляет прямо: «Это мой корабль! Я его захватил!»), не говоря уже о полной беззаконности режима, которому всего-то двадцать лет, но которому она – историк советского разлива (выученица казанского факультета общественных наук, 1920–1924), член ВКП(б) с 1932 года (!), жена предгорсовета Казани, – безоговорочно, как бы от века и навеки – предана всеми фибрами своей новодворянской души. О казни (сравнительно неподалеку, в Екатеринбурге-Свердловске) императорской семьи, о философских пароходах, Соловках, уничтожении крестьянства как класса, судьбе Бунина, Ходасевича и Набокова и целого вырезанного или выдавленного из страны культурного слоя у нее вопросов не возникает. Во всем виноват исключительно Коба, предавший ленинские нормы партийной жизни. Как поется еще в одной песенке:
Отец мой Ленин, мать Надежда Крупская,
Калинин дедушка, а Троцкий брат родной,
Мы жили весело семьей на Красной площади,
Но гуталинщик 5 5 То есть Сталин, с его кавказскими сапогами, который, однако, не был айсором – типичным уличным чистильщиком сапог в старой Москве (и даже на моей памяти).
нарушил наш покой! 6 6 Вариант: Отец мой Ленин, а мать Надежда Крупская, А дед мой был Калинин Михаил. Мы жили весело на Красной площади, Усатый Сталин к нам обедать заходил! По ходу песни Сталин поступает с героем нехорошо ( А мне статья с ужасным юмором досталася, Я с ней весь Север, весь до горки, проканал ), и становится ясно, что обедами Сталина кормить не стоило (https://www.youtube.com/watch?v=ET2CdIXd9mM; один из вариантов А. Волокитина).
В лагере вопросы, разумеется, возникнут и кругозор расширится…
А потом – очередная ирония судьбы! – ее сын станет любимцем оттепельной элиты, потом изгоем-эмигрантом, а потом признанным российским классиком; ему даже вернут квартиру в высотке на Котельнической набережной, но он не оставит и своей виллы в Биаррице. А задолго до того опишет (в «Затоваренной бочкотаре», 1968) «рафинированного» советского интеллигента Дрожжинина, уникального специалиста по Халигалии, с его «подспудными надеждами на дворянское происхождение»!
Моя мама, сверстница Евгении Гинзбург, в партию не вступала, но была смолоду левачкой, членом РАПМа (и, как я понимаю, гражданской женой «пролетарского» композитора Александра Давиденко; 1899–1934). Папа (отчим) был чуть моложе, но не грешил даже и этим, однако в качестве рекордно молодого завкафедрой теории музыки Московской консерватории (1936–1941), конечно, занимал место, освободившееся от старорежимной публики. В свой черед он потом пострадал от антиформалистской (1948) и «антикосмополитической» (1949) кампаний, но до и после этих погромов мы жили уже описанной комфортной жизнью советской культурной элиты. В начале 1990‐х папе пришлось пережить финансовый крах советской системы, все его сбережения и персональная пенсия обратились в труху, но к этому времени культурный капитал, полученный мной в привилегированной советской семье, я успел обратить в международный профессиональный и тем самым долларовый, так что мог прилично содержать его. После его смерти я унаследовал его квартиру на Маяковской, но своей собственной, остоженской, за копейки возвращенной кооперативу при отъезде в эмиграцию (1979), а сегодня являющей бесценный real estate мирового уровня, лишился навсегда. (Как говорилось в Вороньей слободке: «А не летай!»)
Досадная прерывистость нашего элитаризма – не сугубо советская. Вспоминаются слова Павла I: «В России нет значительного человека, кроме того, с кем я разговариваю, и лишь… пока я с ним разговариваю». И чутко вторящего ему Пушкина, шестисотлетнего дворянина, который после случайной встречи на прогулке с императором Николаем признается знакомой: «Черт возьми, почувствовал подлость во всех жилах!»
Так что бог с ним, с аристократизмом. Я мещанин, я мещанин!
В далекую
Эту формулу я уже вспоминал – в связи с тем, как в середине семидесятых папа приезжал к нам с Таней на дачу в Купавну, чтобы, тряхнув стариной, сходить, вот именно, «в далекую». Я помнил ее с детства. Под ее знаком папа, повязав на голову носовой платок с четырьмя узелками по углам, отправлялся за десятки километров к другой ветке железной дороги, слал оттуда маме телеграмму и поспевал к ее сюрпризному вручению местным почтальоном.
Такое он проделывал не только на даче – в Челюскинской (1953–1954, у «Зоси» Мархлевской, дочери польского большевика), в Кратове (1951–1952, у Митлина, одноклассника советского наркоминдела А. А. Громыко, считавшегося в школе одним из самых тупых), на 42‐м километре (1950, у Гаращенко, где я жутко переболел дизентерией), – но и раньше, когда папу еще не увольняли из Консерватории (1949) и мы летом живали в домах творчества композиторов – в Яундубултах на Рижском взморье (1948), под Ивановом (1947), в дважды завоеванной у финнов Сортавале (1946).
Откуда взялась эта странная идиома (стоящая особняком от более обычных, типа вслепую, в открытую, врассыпную ), я не знал и у папы не спрашивал, хотя не исключено, что своими корнями она уходила вглубь его богатой словечками, преимущественно еврейскими, семейной истории и принадлежала кому-то из предков. Своим рано пробудившимся языковым чутьем я сразу выделил ее, полюбил и радостно повторял, но о филологической тайне ее привлекательности не задумывался.
Задался я этой загадкой только недавно – и сходу разрешил ее, раз и навсегда. Но это не значит, что годы нерассуждающей любви к папиному слогану прошли даром. Иногда над разгадкой бьешься долго, иногда она приходит мгновенно, но с любимыми текстами чаще всего бывает так, что ты бескорыстно помнишь их, любишь, цитируешь, примеряешь к себе и другим и лишь много лет спустя вдруг соображаешь, в чем там дело.
Ну, первые тридцать лет вопроса об анализе, естественно, не вставало. Но к середине семидесятых мы со Щегловым разработали соответствующий инструментарий, который охотно испытывали как на литературной классике, так и на образцах «низкого» жанра 7 7 См. наши препринты «К описанию смысла связного текста», I–IV (1971–1974).
. К данному случаю следовало применить понятия иконического воплощения темы и ее проекции в сферу языковых средств. Но тогда это сделано не было. А на днях фраза почему-то вспомнилась – папы уже почти двадцать лет как нет на свете, последний раз мы с ним ходили в далекую в 1984‐м, и он с передышками, но взошел на Мон-Сен-Мишель, теперь же и мои прогулки, в том числе велосипедные, постепенно сокращаются, – вспомнилась и, не церемонясь, открыла свою тайну.
Интервал:
Закладка: