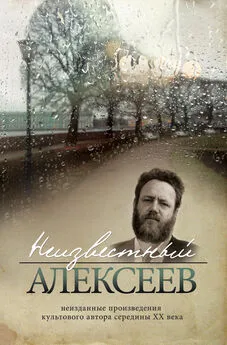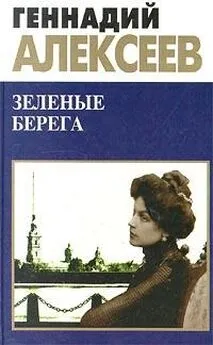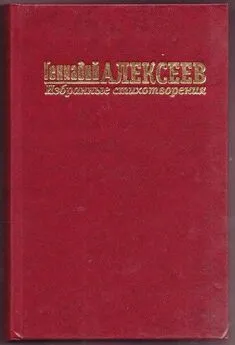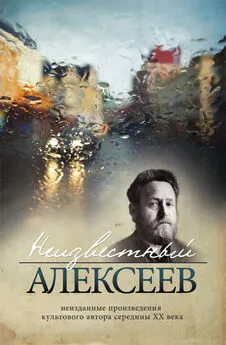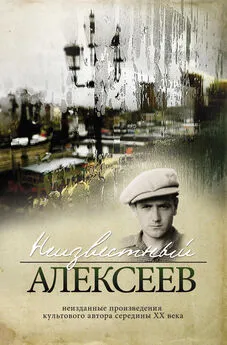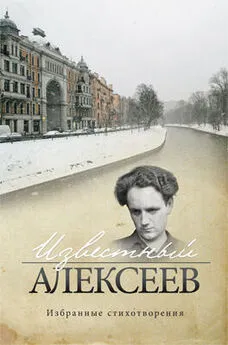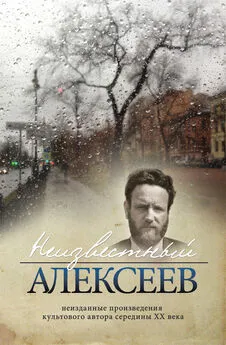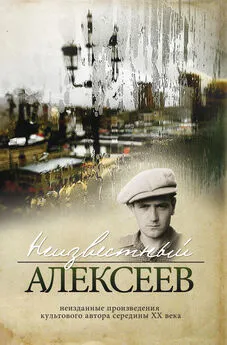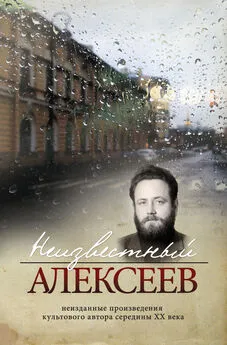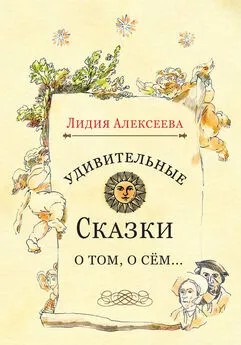Геннадий Алексеев - Неизвестный Алексеев. Том 3: Неизданная проза Геннадия Алексеева
- Название:Неизвестный Алексеев. Том 3: Неизданная проза Геннадия Алексеева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9909707-2-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Алексеев - Неизвестный Алексеев. Том 3: Неизданная проза Геннадия Алексеева краткое содержание
Третий том собрания сочинений «Неизвестный Алексеев» включает только что расшифрованные дневники последнего периода жизни писателя (с 1980 по 1986 гг.) из недавно открытых архивов. Дневники содержат программные мысли писателя, его рассуждения о литературе и искусстве, очерки из литературной жизни «восьмидесятых».
Книга снабжена уникальным иллюстративным материалом: фотографии, сделанные Алексеевым, и фотографии из его семейного архива, ранее не издававшиеся.
Неизвестный Алексеев. Том 3: Неизданная проза Геннадия Алексеева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на свой скепсис, я стал жертвой иллюзий. Мираж успеха заманивает меня дальше и дальше в пустыню безнадежности.
15.3
Вестники весны – гигантские ледяные сосульки, падая с карнизов, убивают людей наповал.
Красивая весенняя смерть.
Истинный человек, это всегда не человек толпы, это всегда человек отдельный.
16.3
Похоронная церемония в крематории.
Черные двери открываются, и провожающие входят в ритуальный зал. Гроб в цветах. Траурная музыка. Распорядительница – молодая женщина в черном строгом костюме проникновенным голосом произносит шаблонные фразы об усопшей. Последние всхлипывания родственников. Присутствующие выстраиваются в цепочку и обходят вокруг гроба. Закрывают крышку, громко щелкают ее замки. Наступает тишина. Все напряженно смотрят на гроб. Он вздрагивает и начинает медленно опускаться.
Выход через другую дверь, прямо на улицу. За первыми, входными дверями уже стоят провожающие следующего покойника. Через десять минут они будут стоять на нашем месте вокруг другого гроба с другим трупом, и женщина в черном будет снова произносить стандартные слова о доброте и отзывчивости усопшего или усопшей.
Крематорий работает с полной нагрузкой, его морг набит мертвецами, которые неделями ждут своей очереди.
Из трубы крематория непрерывно струится серый прозрачный дымок.
В гостях у Дудина. М. А. внимательно читает корректуру моей книжки и, как мне кажется, вполне искренне поздравляет меня с успехом. Приходит живущий в Ленинграде югославский поэт Станишич. М. А. нас знакомит. Пьем кофе. Беседуем о превратностях судьбы и о поэзии. И. Н. предается воспоминаниям о довоенной жизни в Москве, о молодости Дудина, об их первой встрече. М. А., прерывая ее, читает мои стихи из сборника.
– Вот, видите, – говорит мне он, – все у вас получается неплохо. Выходит вторая книга. Вас приняли в Союз писателей. Скоро и третья книжка, небось, появится. Тогда мы сделаем сборник потолще – возьмем стихи из трех книг и добавим новое. Правда, все это делается медленно, но зато верно. Терпение приведет нас к победе.
17.3
В сотнях стихотворений советских поэтов слово «Родина» рифмуется со словом «пройдено», а «осень» рифмуется с «просинью». Эта типизация никого не смущает. Стихи, как здания заводского изготовления, собираются из одинаковых стандартных элементов и столь же уныло однообразны.
Почему я так люблю Петроградскую сторону? Не оттого ли, что она напоминает мне Европу, в которой я никогда не был?
Траурный марш из седьмой симфонии Бетховена. Прекраснейшая в мире музыка. Долго слушать такое невозможно, не выдержит сердце.
Есть два пути в развитии верлибра. Первый – усложненная образность, острая метафоричность, сознательная сгущенность письма (французские сюрреалисты). Второй – четко явленная архитектоничность, заданная структурность, игра словесных масс и ритмов, создающая своеобразный музыкальный эффект (Лорка, Чак, Ружевич).
Мой свободный стих где-то между.
19.3
1945 год. Июль. Ашхабад. Зоопарк. В мутной воде небольшого бассейна плавает белый медведь. Белый он только номинально – шерсть у него грязно-желтая. А в глазах у него тоска – жарища страшная.
1939 год. Зима. Театр Госнардома. Играют оперетту «На берегу Амура». Я сижу в зале вместе с родителями. Спектакль идет по случаю какого-то праздника, кажется, Дня Красной Армии. В антракте к отцу подходит знакомый офицер (тогда говорили – командир). У него на груди новенькая медаль «XX лет РККА». Я гляжу на нее с восторгом. Ее обладатель кажется мне героем.
Обрывок разговора:
«День проживешь – ночь наступит. Ну, думаешь, хоть бы уснуть и подохнуть, не просыпаясь. Но не подыхаешь, просыпаешься. Вот ведь хреновина какая!»
21.3
Саша Житинский привел двоих венгров – редактора журнала «Галактика» и переводчика.
Пили «Гурджаани», беседовали о литературе и искусстве. Мои стихи гостям понравились. Переводчик тут же переводил их, вернее, пересказывал их содержание по-венгерски для редактора, который не знал русского. Редактор очень живо реагировал на услышанное. Моя живопись тоже не осталась без внимания. Больше всего хвалили «Одинокого рыбака» и «Вавилонскую башню». Попросили сделать с них слайды и прислать их в Венгрию. Пообещали мои стихи и репродукции с моих картин опубликовать в «Галактике».
Пробыв у меня часа полтора, венгры удалились, а Саша остался. Я читал ему прозу, и он ее хвалил. И он наговорил мне кучу комплиментов, и он сказал, что со мной все в порядке – сделанное мною не пропадет и не будет забыто, и журил меня за пассивность, и мы снова пили с ним «Гурджаани», вспоминая венгров – какие они умные, всё понимающие люди!
22.3
Подлинная культура творится немногими для немногих. Многие довольствуются создаваемой многими облегченной полукультурой или откровенной подделкой под нее.
Рахманинов делал в музыке то же самое, что Бунин – в литературе. Оба предпочитали новациям старый, добрый, всеми любимый сладостный стиль и отказывали двадцатому столетию в праве иметь свое собственное искусство. Рахманинов подражал Чайковскому, Бунин – Тургеневу. И оба они изощренностью превзошли своих учителей.
Весь день занимался живописью. Появилась на свет «Падающая статуя». Она мне нравится.
27.3
Парочка. Она – в старом, выцветшем пальто, в столь же старых грязных ботинках. На голове какого-то тюремного цвета платок. Из-под него торчат пряди нечесаных, свалявшихся волос. Он – тоже во всем старом и грязном. Вместо лица у него страшная красная маска. Веки вывернуты. Носа почти нет. Ноздри зияют, как на черепе у скелета.
Идут, взявшись под ручку, раскачиваясь и делая зигзаги. Оба пьяны.
1944 год. Февраль. Казанджик. Всем семейством в воскресенье отправились на прогулку в горы – они совсем близко.
Голые розовато-серые скалы, осыпи камней. Кое-где небольшие, поросшие свежей травой лужайки. В траве тут и там краснеют тюльпаны.
Отец взял с собой пистолет. Найдя укромное место, мы развлекаемся стрельбой. Стреляем в платок, повешенный на палку. Сначала мама, потом отец, после я. Пистолет тяжелый, большой (марки «ТТ»). Я держу его обеими руками, но дуло все равно перевешивает и клонится вниз.
– Не надо целиться долго, – говорит отец, – подымай пистолет и сразу стреляй. Рука не должна уставать.
Наконец я нажимаю на спуск, и раздается выстрел. Пистолет дергается вверх, и гильза со свистом пролетает у меня над головой.
– Спокойнее, спокойнее, не нервничай! – говорит отец. – И не надо с такой силой зажмуривать левый глаз, у тебя все лицо перекосилось.
Я делаю еще два выстрела, и мы подходим к платку. Все три мои пули попали в цель.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: