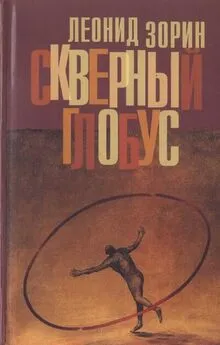Леонид Зорин - Перед сном
- Название:Перед сном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9780369402233
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Зорин - Перед сном краткое содержание
Леонид Зорин – был постоянным автором журнала «Знамя». В течение десяти лет все его крупные прозаические сочинения впервые публиковались этом журнале. Нынешняя публикация – двадцать пятая на страницах журнала «Знамя».
Перед сном - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И я заставил себя забыть все, что я знал о человеке. А знал я много. Больше, чем стоило. Знал, как он может быть завистлив. Безжалостен, несправедлив, жесток. Но, зная присущие ему свойства, я предпочел его возвеличить. И это было не только естественным, но взвешенным и мудрым решением. Племя, уставшее от поражений, услышало здравицу в свою честь и было за нее благодарно. Мое счастливое состояние вдруг оказалось необходимым, целебным, возродившим надежду. Стало понятным, что зоркость Чехова, его беспощадная, жесткая трезвость и даже его ни с чем не сравнимое, такое всевластное обаяние не то отстают от боя часов, не то теряют силу воздействия. Если Толстой был наместником Бога, вероучителем и судьей, то наш Антон Павлович слишком приблизился к своей читательской аудитории, он стал неотъемлемой ее частью, соседом, сородичем, членом семьи. Меж тем читатель, как оказалось, – в особенности российский читатель – хочет, возможно и неосознанно, чувствовать некое расстояние между писателем и собой. Пушкин естественно наше все, но про себя мы отлично знаем и твердо помним, что все – не наше. Все – это то, к чему стремятся, что нас вмещает, но что существует само по себе, вне нас и над нами. Планета, окруженная спутниками.
Я полной мерою заплатил за место, занятое в словесности. Я вынужден был жить публичной жизнью, которую втайне я не любил. Недаром меня влекли острова, те оторвавшиеся от суши клочки ее тверди, однажды ставшие существовать от нее автономно. И сам я стремился стать если не островом, то хоть одним из островитян. Принадлежать самому себе. Остаться наедине с бумагой, с моими цветными карандашами и верным пером, зажатым в руке. Но эта единственная мечта, имевшая неподдельную ценность, так и осталась недостижимой. Сбылись остальные. Самые вздорные. Тешившие мое честолюбие, которое, получив свое, в конце концов отпустило душу, зато самого меня так и оставило заложником завоеванной славы.
Отныне я был приговорен к немолчной, неестественной жизни. Себе я отныне не принадлежал. Я должен был соответствовать образу, созданному своею легендой. Я стал олицетворением мифа, которому я дал свое имя, свою биографию и судьбу. Я понимал, что ему обязан тем, чем владею, и всем, что значу. Что мы отныне неотторжимы.
И стало ясно, что ни чахотка, ни вечная каторга за столом, ни эта последняя Главная Книга, которую вряд ли допишу, не расположат, не привлекут чужую завтрашнюю Россию. Книги не примут, мою судьбу перетолкуют, труд обессмыслят. Так заплачу я за то, что забыл, что книга – исповедь, а не проповедь. Стоило только взвалить на себя тяжкую, неподъемную кладь то ли наставника, то ли пастыря, и сразу же я стал обречен на грозное сотрясение воздуха, на оглашение приговоров или раздачу похвальных грамот. Отныне я стал получателем писем, почтовым ящиком, главным арбитром. Я должен был не говорить, а вещать, не излагать свои впечатления, а выносить одни лишь вердикты, не подлежащие обсуждению. Время всегда было переполнено, в нем не осталось свободного места для разговоров с самим собой, для размышления, для одиночества. Воздух, которым теперь я дышал, стал ледовит и жизнеопасен – острый, разреженный воздух вершин. Чем больше весило мое слово, тем меньше было в нем жизни и страсти. Чем ближе был ко мне человек, тем я скупее был в своем чувстве. Бывшие жены ездили в гости, я уже мало их отличал от остальных своих посетителей. Сыну отцовской любви недодал, за это был наказан так страшно – не он меня, я его хоронил. Дочери рядом не задержались. Первая оставила мир, в нем не прожив и пяти годочков, другая со мной не провела и нескольких дней. Неловко сказать – я и не разглядел ее толком. Живет во Франции, балеринка, отцом своим считает другого. Мать ее была гордая женщина, так и внушила ей с детских лет. Этот другой благородно поддерживал укоренившуюся легенду. Он был умен, дальновиден, удачлив, сумел без особых на то оснований тепло и удобно устроиться в мире и знал, что за такую фортуну не так уж и дорого заплатил. Жизнь ему досталась счастливая, удавшаяся по всем статьям. Теперь и семья у него другая, жена и красива и молода, актерка, снялась в популярной ленте.
Однажды один наблюдательный гном сказал мне, покачав головой, с почтительно завистливым вздохом: «Сколько любило вас и ласкало жен и дочерей человеческих!». Я посмеялся, не стал с ним спорить, и разве он погрешил против истины? Много вокруг меня прошуршало женских одежд, и чаще всего эти одежды послушно спадали, оказывались непрочной защитой. И все-таки маленький острослов не так уж был прав. Те, кого я любил, меня не любили, хотя и охотно и щедро делили со мною ложе. Любили Горького, а не Пешкова, любили не человека, а имя, его необычную, с боем взятую и завоеванную им жизнь.
Но этого никому не скажешь, а если скажешь – не будешь понят. Вот и пришлось мне полицедействовать, до самого последнего дня расцвечивать и грузить свою жизнь – пророчествовать, судить, прокурорствовать, смирить свою гордость, отдать свободу, поставить слабеющее перо на службу политической воле.
Я помнил в лучшие свои годы: литература не терпит притворства. Писатель не пишет того, что не чувствует. Чехов был близок моей душе, но я не умел и совсем не хотел ни утешать, ни жалеть людей, которых он был готов понять, простить и, больше того, оплакать. Я устоял и перед Толстым, который внушал мне сакральный трепет, и не умножил числа богомольцев. Я не хотел присягать народу, что было необходимым условием, стоявшим перед русским писателем. Но я ведь, в отличие от большинства моих собратьев, был его частью, я в нем родился и долго жил, и я не убоялся спросить, когда он стал священной коровой нашей словесности: а за что я должен его любить? За скотство? За свинство, за грязь, за свальный грех? За то, что упившийся негодяй с размаха бьет своим сапожищем в живот беременную жену?
Какое растерянное негодование вызвали эти слова в благопристойной среде коллег, привыкших в своих ухоженных гнездах демократически горевать о грустной судьбе меньшого брата! Но я не боялся пойти поперек, сказать поперек, не слишком задумывался о правилах хорошего тона. Я делал то, что считал естественным, и говорил лишь то, что хотел. Отлично помню, как Немирович мне написал, возвращая пьесу, что отношение его к автору не поколеблено и остается таким же дружеским и сердечным. Меня не придержали приличия, и я в ответном письме заверил самодовольного джентльмена, что никогда меня не занимало то, как ко мне относятся люди. Имело значение только то, как я отношусь к этим людям сам. И Немирович стерпел, смолчал, понял, что может мной поперхнуться.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: