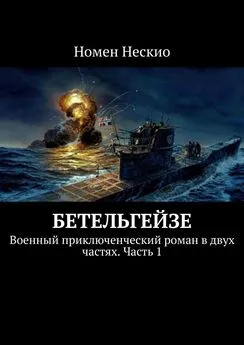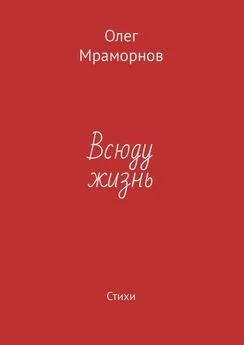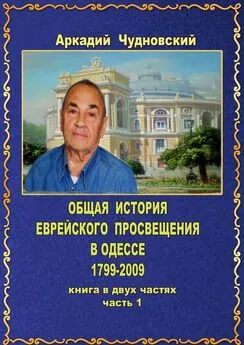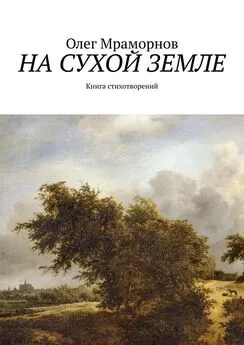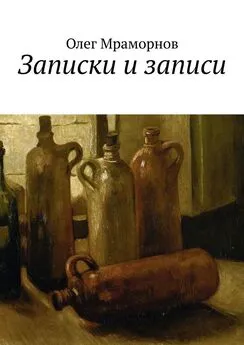Олег Мраморнов - НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях
- Название:НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449831828
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Мраморнов - НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях краткое содержание
НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Художник, говорит нам Бунин, это всегда стремление, никогда не прекращающееся ожидание.
«Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, где можно размахнуться жизнью, даже потерять её за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, „что Бог дал“, – только земля, только одна эта жизнь. Бог, очевидно, дал нам гораздо больше».
Становление, осуществление теснейшим образом связано у Арсеньева с жаждой беспредельного, бесконечного, с тоской по трансцендентному.
Перед нами жизнеописание, но жизнеописание особенное. Его вехи расставляет не интригующая активность героя, не его внешние достижения и успехи, но исключительно самопознание и самоуглубление. Классический роман толстовского типа целиком уходит в лирическую стихию и внутренний монолог, утрачивает видимые привязки к истории и социально-политическую иллюстративность.
Для традиционной романной биографии нужны соотнесенные с поступательным историческим временем узлы и события, сцепления и связки, а в «активе» Арсеньева только память гаснущего рода, только неутолимая тоска по нездешнему. Социально-проблемное существует в отдалении от героя, а когда касается его, то не задевает глубоко и не вовлекает в себя.
Однако Арсеньев, испытывая потери и разочарования, не теряет возникшее в ранней юности острое, кровное ощущение России, родины – через духовно нерасторжимую «связь с былым, далёким, общим, всегда расширяющим душу нашу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему» . Это следует подчеркнуть и уяснить особо.
Жизнеописание обрывается на излете юности; срединная, обыкновенно самая деятельная часть жизни, остается за пределами повествования. Короткие эпилоги зрелости не затмевают молодости, остающейся главной метой последующих лет, средоточием всего словесного действа.
В какой-то момент жизнь Арсеньева, впечатлительного русского юноши из дворянского захолустья, начинает развёртываться в координатах, снимающих биографические рамки, выводится за границу отведённого отдельному человеку исторического времени, превосходит это время, приобретает общечеловеческую и космическую перспективу и выходит на путь всеединства. Её итогом становится «то грозное и траурное», что пылает над нами .
***
«Доктор Живаго» также представляет собой жизнеописание поэта. Роман Пастернака более обстоятелен, обширен сюжетно и событийно. В нём есть признаки исторического романа, тогда как «Жизнь Арсеньева» довольно слабо связана с событиями исторической действительности восьмидесятых и девяностых годов и сосредоточена на поисках утраченного времени – на частной и личной жизни её главного персонажа.
Непостижимость жизни в «Докторе Живаго» выражается не через карающего, как у Бунина, Бога, а через неожиданное и чудесное, своим вмешательством устраняющее роковые обстоятельства. Бог оказывается ближе к человеку, чем казалось герою «Жизни Арсеньева». Провидение наделяется чертами реального, вещественного присутствия. Его можно коснуться. Творец и его создания не разделены непроходимой пропастью, как об этом думалось Бунину.
«Может быть, состав каждой биографии наряду со встречающимися в ней действующими лицами требует еще и участия тайной неведомой силы», – размышляет доктор. Сосредоточенность на «составе биографии» обращает на себя внимание. Тайная неведомая сила , являющаяся непременной составляющий всякой биографии, обнаруживает себя не только в виде полусказочного сводного брата Юрия Евграфа Живаго, но подчас придает ходу повествования тон рождественского рассказа.
В независимости от близости и помощи тайных сил герои романа не раз испытывают растерянность перед историей, которая тоже обладает своего рода магическим свойством – впечатлять и пленять.
Пастернак историчнее Бунина. Бунин, выступавший в эмиграции как страстный и пристрастный публицист по «болевым» проблемам современности, уходил от истории, когда она начинала мешать воплощению его собственно художественных замыслов. А Пастернак жил под впечатлением от революции, встретил порыв истории с открытым забралом, смело отдался напору исторической стихии.
В романе написано: «Мелко копаться в причинах циклопических событий… Всё… истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось».
Так декламирует вдохновлённый грандиозной картиной революции и перестройки мира Живаго, а вместе с ним и автор, смолоду мечтавший о «социализме Христа» и не утративший социалистических предпочтений. Но царство социализма, всеми силами души чаемое обновление и освобождение, желание отдаться силе, превосходящей возможности отдельного существования, в романе сопровождается приступом неожиданного отчаяния доктора, «чувством наивысшего несчастья» и «сознанием своей невластности в будущем, несмотря всю свою жажду добра и способность к счастью».
Пленённость ходом истории может обернуться фактическим пленом. Оказываясь в плену у партизан, Живаго говорит партизанскому вожаку Ливерию: « Переделка жизни!.. Она <���жизнь> сама непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама себя вечно переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий».
Тревожные предчувствия героя отражают смысл понимания зрелым Пастернаком стихийного исторического вмешательства в судьбу отдельного человека. Именно в революции, в захватившем значительную часть близкой к Пастернаку интеллигенции прорыве русского освободительного движения заключены мотивации многих биографий и судеб героев романа и вместе с тем роковые силы гибели.
История способна покалечить личность, сломать биографию, в своём разбеге не оставить человеку выбора.
Москва конца 1917 года. Юрий Андреевич читает первые декреты нового правительства и опять взахлёб говорит про чудо истории , про откровение , про неожидаемость великого . Дальнейший ход жизнеописания свидетельствует о перемене масштабов и мер. Исторически грандиозное перестаёт быть таковым. Не потрясенья и перевороты/ Для новой жизни очищают путь,/ А озаренья, бури и щедроты/ Души воспламенённой чьей-нибудь…
Склонность к потрясениям от исторических величин пройдёт у Живаго, когда он вдоволь вкусит от революции. История начнёт представляться ему не как потрясающе величественная перемена, но «наподобие жизни растительного царства, рост которого нельзя уследить».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
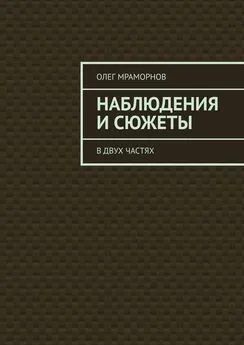

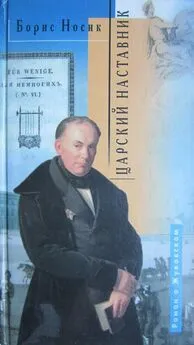
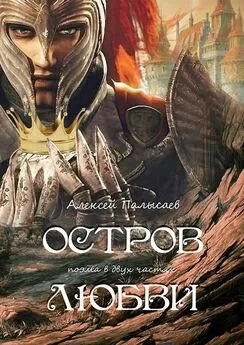
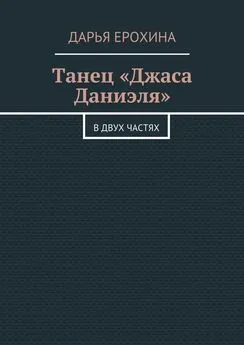
![Леонид Резник - Диктатор поневоле [Фантастическая повесть в двух частях]](/books/1097857/leonid-reznik-diktator-ponevole-fantasticheskaya-po.webp)