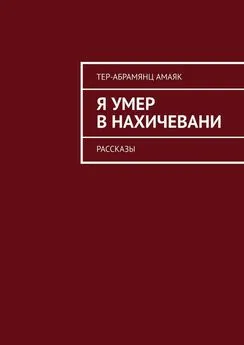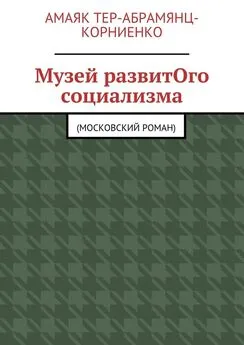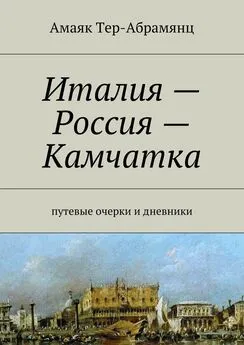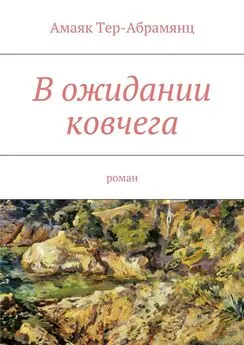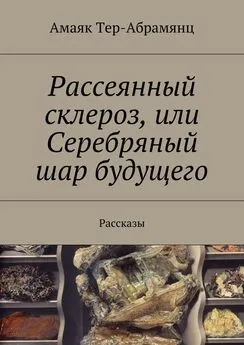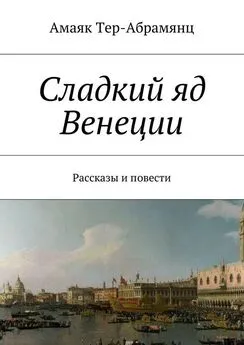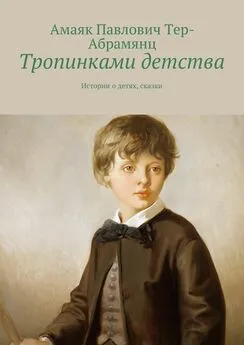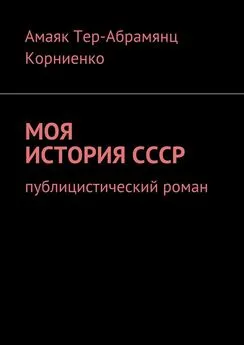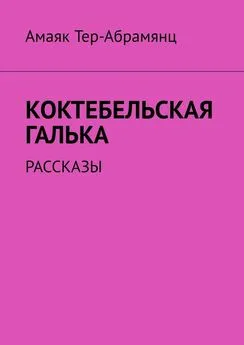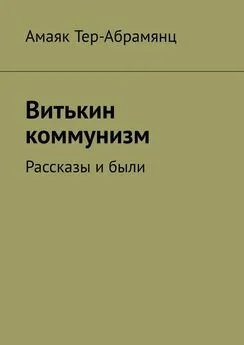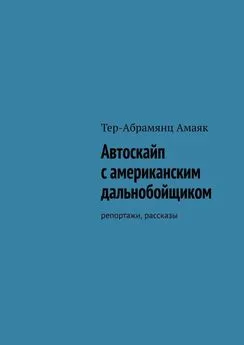Амаяк Тер-Абрамянц - Я умер в Нахичевани. Рассказы
- Название:Я умер в Нахичевани. Рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449803634
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Амаяк Тер-Абрамянц - Я умер в Нахичевани. Рассказы краткое содержание
Я умер в Нахичевани. Рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Может ли быть так, чтобы мы испытывали чувства глубокой приязни и симпатии к людям, которых никогда не видели и не увидим на этом свете, к людям от дня гибели или смерти которых нас отделяет столетие? У меня есть такой человек – мой армянский дед волостной писарь Нахичеванского уезда Левон Тер-Абрамянц. Когда я вспоминаю о нём, то чувствую вокруг и в себе мягкое дружественное тепло. Может быть так подаёт мне знак его душа. И вот я решил приостановить свои дела и разобраться по тому немногому, что я знаю, что это был за человек и почему меня такое чувство, чувство его присутствия посещает. В нём тёплая радость и чуть-чуть печали недосказанности, не случившегося – не случившихся тёплых задушевных бесед полных человечной мудрости, наивного удивления изменившимся миром – впрочем, надеюсь, они впереди… Сквозь все катастрофы прошла лишь одна фотография на паспарту с его изображением и то в группе крестьян и крестьянок у гроба убитого злодеем соседом мальчика за нечаянно разбитое в шалости стекло, красивое лицо которого ещё не тронуло разложение смерти. Дед выше окружающих. Дед стоит в ногах гроба, одетый, как и все крестьяне – картуз с узким лаковым козырьком, глухая, до подбородка не то рубаха, не то куртка без пуговиц, (толстовка?) лицо простое, с крупными мягкими чертами, смуглое, совсем крестьянское, но глаза, напряжённо устремлённые в объектив, будто страстно вопрошают: «Где справедливость, где Бог?» В этих глазах душа сострадающего. Итак, что я знаю о нём, о его жизни в период до Катастрофы? На фото он уже выглядит не молодым, лет пятьдесят, наверное, по нашим меркам возраст не такой уж преклонный, по меркам прошлого – подступы к старости. Родился он в селе Айлабад Нахичеванского уезда Эриванской Губернии, что на самом берегу Аракса и в трёх километрах от Нахичевани, в семье армянского священника Арутюна Тер-Абрамянца. Арутюн Тер-Абрамянц был человеком не бедным, хотя и крестьянского труда не гнушался: кроме виноградника и сада был в его собственности небольшой лесок, а дерево в тех засушливых практически не знающих зимы почти безлесных местах было великой ценностью. Но высшей его ценностью был родник, ибо в тех местах вода воистину была на вес золота. Огороды и сады орошались прорытыми канальчиками с водой, за использованием которой бдительно следили, и не было страшнее греха, чем ночью перенаправить воду от сада соседа себе. За такое воровство убивали и, кажется, такая расправа в этих местах не вызывала у людей возмущения ибо все понимали, что вода – это жизнь. До сих пор помню, с каким удовольствием отец пил обычную воду в жаркий день из стеклянного графина в подмосковном Подольске, несмотря на то, что с тех пор как он покинул те места миновало более полувека и большая часть жизни его прошла среди лесов и болот средней полосы, в России и Эстонии.
О прадеде моём человеческая память донесла, что он был головой четырнадцати армянских деревень. Жена умерла раньше его, он жил вдовцом и последние годы жизни любимым его занятием было питие вина вприкуску с рафинадным сахаром, бывшим в то время деликатесом. Иногда он пытался избавиться от этой привычки, отдавая ключи от подвала с каррасами, в которых томилось вино, слуге Нико со словами: « Как бы я ни просил к вечеру ключи, не давай их мне, иначе – уволю!“ Наступал вечер и Арутюн принимался ходить за слугой, выпрашивая ключи, сначала по-хорошему, но рано или поздно доходил до кипения: „Если сейчас же не дашь ключи – уволю!“ и бедный слуга был вынужден нарушать утреннее распоряжение хозяина. Умер прадед в 1906 году на родной земле в собственной постели. У него осталось пять уже вполне взрослых и самостоятельных детей. Три сына – Левон (мой дед), Арам, Мамикон и две дочери.
Судя по тому, что мой дед на фото выглядит на пятьдесят, а фото произведено до Катастрофы1915 – 1921 годов, родился он примерно около 1865 года. Закончил высшее реальное училище на русском языке в Нахичевани и получив назначение волостного писаря, поселился в селе Шихмамуд.
Село Шихмамуд (уже азербайджанское) я видел из окна автобуса, который перевозил московских туристов уже после событий в Сумгаите. Мы были, наверное, последними туристами из России в этих краях: через какие-то полтора месяца в Армении произошло страшное землетрясение, здесь началась война и коммунистами слепленный из великой Российской Империи Советский Союз стал разваливаться. Белые домики вдали на фоне театрально живописных невысоких голубых гор с крупной крутой, напоминающей зуб горой справа, в сторонке – выбивающаяся из общего горного пейзажа, но придающая тем самым ему индивидуальность – Змеиная Гора. Женился дед Левон на Софье Абрамовне Масумовой девушке из многодетной семьи. В этой женитьбе вряд ли было много романического, страстного, для наших предков брак был делом слишком серьёзным, чтобы его полностью отдавать на откуп чувству, скорее брак здесь был по взаимной симпатии, взаимоуважении и практическому расчёту на здоровых детей с учётом минимума обеспеченности, и возможности физического выживания. Мой отец вспоминал о матери (моей бабушке Масумовой): „Мать была среднего роста, обладала красивой внешностью, тонкими правильными чертами лица и стройной слаженной фигурой. Грамоте обучалась в объеме трехклассной армянской церковно-приходской школы. Она прекрасно владела искусством кройки и шитья, а также художественным рукоделием, которым обучилась сама, наблюдая за работой других женщин. Мать отличалась строгим характером и энергичностью, умело руководила всем семейством. Несмотря на свою молодость, она умело и успешно выполняла все виды работ домашенго хозяйства полусельского уклада нашей жизни. Здоровье её было слабое – постоянно донимали кашель, который особенно усиливались по вечерам, и боли в суставах. Медицинской помощи тогда однако на территории волости не существовало: каждый лечился сообразно различным советами знахарей и шаманов.“ Положение волостного писаря давало гарантию постоянного „куска хлеба“. Сейчас, во время сплошной грамотности, наверное, не просто представить себе роль писаря в то время. Деда моего, как свидетельствует отец, „все уважительно величали мирза Левон (мирза – по-персидски писарь). Он был постоянно погружен в свои служебные обязанности. Человек он был скромный, характера мягкого и добродушного. К спиртным напиткам питал органическое отвращение – даже в гостях обходился от рюмки натурального виноградного вина. Среди большинства сельских жителей за отцом утвердилась репутация ученого человека, владеющего как устно, так и письменно, армянским и русским языками. Одновременно с признанием его достоинств существовало распространенное мнение, что он совершенно лишен практичности, способности к любой другой работе, кроме писарской.“ Это был, по всему судя, тип сельского интеллигента, честно исполняющего свою работу, много читающий выписываемые журналы и газеты. Поделиться своими отвлечёнными, далёкими от практической жизни села мыслями ему было не с кем, и он только ходил по дому взад и вперёд, будто над чем-то размышляя, и, наконец, останавливаясь, глубокомысленно произносил, одобрительно, осуждающе или будто чему-то удивляясь: „Да-а-а!“. Внутренний мир имел для него, видимо иной раз даже большее значение, чем внешнее окружение. Об этом свидетельствует необычная его рассеянность: по должности он носил кольт, но нередко забывал его в гостях и оружие приносили ему домой. Уважением и авторитетом односельчан он пользовался особенным и честности человек он был необыкновенной. Как-то волостной суд, рассматривал дело. Юноша из бедной голодающей семьи украл два бревна. Хозяин брёвен, богач, настаивал на уголовном наказании юноши. Возник горячий спор. Наконец, богач объявил: „Хорошо, тогда пусть будет так как скажет Тер-Абрамянц!“ Левон Тер-Абрамянц подумал и сказал: „А я бы ему эти брёвна подарил!“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: