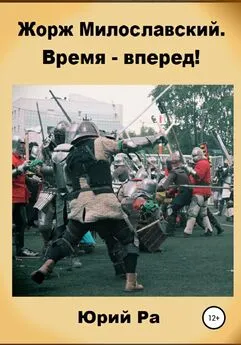Юрий Лощиц - Эпические времена
- Название:Эпические времена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907085-18-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Лощиц - Эпические времена краткое содержание
Но в названии обозначена и иная историческая панорама.
Миновав тысячелетия «медленного шествия» по накатанным путям патриархальных традиций, человечество на всех парах «технического перегрева» вламывается в сроки, чреватые всесветным крахом. И здесь уже не идеологии, партии и режимы «рулят», а ими помыкают самонадеянные, отдающие коллективным бредом иллюзии и схемы.
Эпические времена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Те ведь тоже вели себя непривычно, даже отчасти смешно: со своими насекомыми, со своей клубящейся черным дымом бронемашиной, с померещившимся Лениным. Что в них было загадочного? Что было странного в том, что еще какие-то из них однажды замусорили нам двор мятыми обертками от масла и плавленого сыра? Помню, бабушка, заметив, что я уже потянулся рукой к сверкающей фольгой обертке, цыкнула на меня: «а ну, не лизь… то гимно поросяче, смиття… тьфу!». Что было странного, загадочного в том, что они мусорят или гадят где попало, не стесняясь взрослых и детей?
Не выглядели странными, а, скорей, смешными, жалкими, и румыны, что в своих грязно-бурых шинелках с поднятыми воротниками ходили по трое-четверо вдоль улиц села и требовали, а то и выклянчивали у хозяек кукурузную муку, чтобы сварить из нее свою плотную кашу – мамалыгу. От зернового хлеба у них, говорят, болели животы и опухали глотки и десна, вот они и шли за своим кукурузным сбором с приоткрытыми ртами…
Почему же и по сей день остается для меня загадочен этот, единственный из всех? Ведь для чего-то и он всё же появился? Может, хотел разведать, не здесь ли живет молодая учительница и какая она из себя, и знает ли она, к примеру, немецкий язык?
Или о другом у нее хотел узнать: не она ли красуется на фотоснимке, который он приметил в жилье, где находится на постое: школьники сидят вокруг своей наставницы и по ее команде учебники пораскрывали, и у всех там – Сталин!
Но маму в тот день он бы увидеть не мог – ни в хате, ни на подворье. Она вообще в те дни и недели, – когда через Фёдоровку немцы прошли в 41-м на восток и когда в начале весны 44-го покатили на запад, – в родном доме почти не появлялась.
Лишь после оккупации провела она меня к той отдаленной хатке на краю поросшей молодым лесом яруги, где ховалась , и не она одна. Мы пошли с ней сначала задворками села, мимо дедушкиного виноградничка, мимо кладбищенского холма. Когда миновали самые дряхлые деревянные кресты и один или два древних каменных, почти заросших кустами шиповника, тропа изогнулась, заспешила вниз, вдоль темной размоины-рыпы, цепляясь за корни деревьев. Тут, на крошечной полянке под старой лишаистой соломенной стрехой, и обнаружилась хата-невеличка маминой бабушки Олены. Что-то мама ей принесла в узелке и выложила на стол. Почти тут же маленькая старушечка в светлом платочке залепетала, зашаркала ножками в сторону белой и тоже маленькой печки, обещая, что и у нее в хатынке найдется гостинчик, чтобы угостить Тамариного сынка. И, точно, в ручке своей она вынесла к столу еще теплое печеное яблоко, будто напитанное медом. И я подумал: как хорошо, наверное, было маме ховатысь, – укрываться тут, на самой глухой из окраин села, от всякой беды. И как жалко, что ни от бабы Даши, ни от мамы я ничего про таинственную свою прабабушку до сих пор не знал…
А что если этот любознательный, в зеленом мундирчике, от кого-то в селе выведал фамилию моего отца и потому захотел, поднявшись к нам, разрешить свое недоумение: что это за фамилия такая Лощиц? Вроде бы перекликается с немецкими и австрийскими типа Лейбниц, Тирпиц, Клаузевиц, Зейдлиц?.. Или же отнести ее надо к иудейским, поддельным под германские и австрийские, – вроде Лифшиц, Липшиц и прочие?
А может, потому он пришел, что его рассмешил недавно услышанный от своих же анекдот про местного крестьянина, который с помощью всего нескольких немецких слов доказал солдафону из разведки, что в сельской хибаре висит не портрет Ленина, а его, крестьянина, портрет, да еще написанный каким-то художником из старой немецкой колонии?
Или же интерес к дедушке возник у странного гостя по другой причине: от кого-то из наших односельчан он мог услышать, что, точно, этот самый Грабовенко в молодости работал у немцев-колонистов и выучился готовить всевозможных сортов колбасы, сальтисоны, ливеры, грудинки и окорока, а сверх того на сельских свадьбах он же может часами лихо играть на скрипочке всякие краковяки и польки. Судя по всему, у офицерика не было в то утро гастрономических намерений. Ну, какой крестьянин станет к его приходу придерживать в своей кладовке хотя бы фунт шпига? Но вот что касается музыки… Что если он сам был музыкант? И шел к нам, насвистывая что-то веселое из Гайдна, или Моцарта, или модного Карла Орфа? Ведь все они, великие, не стыдились обрабатывать для своих оперных арий, концертов, сонат самые простенькие, но забавные мелодии, подслушанные именно у простолюдинов. И лишь подойдя к нам на два шага, решил, что его с этой легендой о пейзанском скрипаче кто-то из переводчиков ловко разыграл. Ну, не способен сидящий перед ним старик в ватнике, с грубыми венами рук, с короткими, корявыми, желтыми от никотина пальцами, с их узластыми от земляных работ суставами не только пиликать что-то, а даже притронуться к смычку и скрипичным струнам.
Как-то, за беседой с Петром Васильевичем Палиевским, который в отрочестве даже подвергся насильственному выселению в Германию, я вспомнил о своих годах, проведенных в оккупации, в том числе и об этом странного поведения немце. Палиевский оживился и пообещал дать мне на время недавно вышедший в США, но в русском переводе, сборник воспоминаний немецких офицеров и солдат, воевавших на территории СССР в составе гитлеровских войск. Уникальность этих мемуаров, в чем я убедился, прочитав книжку, заключалась в том, что авторы подобрались, видимо, по принципу нестандартности своего отношения к народу, с которым они много лет назад столкнулись в советской России. Они писали не столько о своей личной храбрости, не о стратегической гениальности или, наоборот, тупости командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями, сколько о странном славянском народе, живущем в варварской праотеческой простоте. Их убогие жилища с глиняными полами и соломенными крышами лишены электричества, водопровода, канализации. Большинство из них почти круглый год ступает по земле босыми ступнями. Они не ведают, что такое одеколон и зубная щетка, а вместо мыла натирают руки глиной. Но, при всей их отталкивающей негигиеничности, это какой-то поистине галилейский народ, необыкновенно выносливый, смиренный в своем наивном, непоказном боголюбии, способный на неподобострастное и даже великодушное отношение к немецкому воину, которого они умеют искренне пожалеть и… перекрестить на дорогу, как и своих детей, воюющих на стороне безбожного коммунистического сиона. Эти мемуаристы, воевавшие на разных фронтах, не сговариваясь, свидетельствовали по сути, об одном: в деревнях и селах России под коростой примитивного быта они разглядели не образины дикарей, как были приготовлены увидеть, – но лица, осененные Христовой истиной. Миссионеры цивилизованного Запада, они опешили, очутившись как бы в другом совсем времени, – там, где еще живы слушатели Нагорной проповеди. А если не опешили, то, по крайней мере, глубоко задумались. И надолго – вплоть до своих запоздалых признаний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


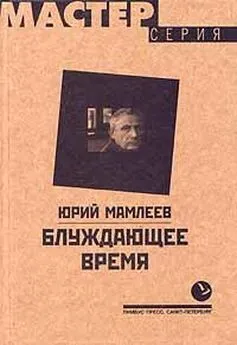

![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](/books/409230/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3.webp)