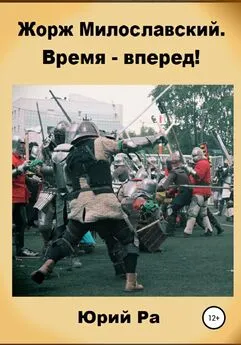Юрий Лощиц - Эпические времена
- Название:Эпические времена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907085-18-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Лощиц - Эпические времена краткое содержание
Но в названии обозначена и иная историческая панорама.
Миновав тысячелетия «медленного шествия» по накатанным путям патриархальных традиций, человечество на всех парах «технического перегрева» вламывается в сроки, чреватые всесветным крахом. И здесь уже не идеологии, партии и режимы «рулят», а ими помыкают самонадеянные, отдающие коллективным бредом иллюзии и схемы.
Эпические времена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но, кажется, завяжи мне глаза, я мог бы сразу угадать: а ну, расступись, все запахи, потому что… Потому что это дышит наша конопля, и чем ближе вечер, тем ее дыхание чище, острей, сильнее, и вот-вот в будоражащем шелесте ее пахучих стеблей я различу радостное топотание ступней моей бегущей к нам и легко дышащей сестренки.
Когда это было?.. Не вычислю года, но догадываюсь, осенью. Мы с дедушкой, бабушкой и мамой под вечер спускаемся на телеге в долину за край села. Остановились над зарослями камыша. Дедушка раздвигает его высокие усохшие стебли руками, закатывает штанины выше колен и сходит – к ручью ли? К большой ли луже, в которую превратился за лето ручей? Что-то нашаривает, общупывает руками. Вода вдруг со всхлипом отпускает наверх непривычного вида темно-бурый сноп. С каждым шагом дедушки в нашу сторону сноп этот вытягивается, вытягивается.
На мое всегдашнее недоуменное «А цэ що такэ́?» слышу короткий ответ: конопель . Мне даже противно слышать такое. Неужели наша пахучая зеленая конопля превратилась в эти склизкие, воняющие болотиной пучки?
Но дедушка, надсадно дыша, поднимает наверх сноп за снопом. Женщины тоже взмокли, укладывают тяжелый мокрый груз вдоль тележного дна.
Да не может быть, чтобы эти длинные зловонные комья грязи – всё, что осталось от нашего темно-зеленого пахучего клина? После пребывания в мутном ручье конопля выглядит такой жалкой, просто безобразной! И при этом еще издает непереносимо тяжелый дух гниения. Или пережитого наказания?..
Но сейчас, вглядываясь в тот поразивший воображение вечер, я обнаруживаю: моя детская жалость совершенно вытеснилась другой, гораздо более сильной, нынешней жалостью. Как же так? Почему не сбереглось в памяти ни единой отметины для совершенно нового существования, которое начинали в тот самый день истекающие затхлой жижей снопы? Ведь расписана же была для них, как по складам, жизнь новая, поистине былинная, – та самая, что неизменно возобновлялась на крестьянских подворьях моей земли из года в год, из тысячелетия в тысячелетие.
Не преувеличиваю ли насчет тысячелетий?..
Нет. Мой, увы, уже покойный наставник и друг академик Олег Николаевич Трубачев в одной из своих последних итоговых книг, касаясь происхождения славянства на материале древнейших названий вещей, предметов, природных событий, окружавших человека в его извечной повседневности, целую главу посвящает и ей, конопле. Как, откуда в какие эпохи, в какие, как я их для себя называю, эпические времена, имя конопли, похожее в звучании у разных народов Европы и Азии, стало неизменной частью людской пракультуры? Почему коноплю захотел заметить еще зоркий-презоркий Геродот, упомянувший ее в своей «Истории» скифов-земледельцев? Почему конопля входила в повседневный словарь еще индоариев? Почему укоренилась в срединном Подунавье, в центре Европы, которое Трубачев считал исконным местом оседлого пребывания славянства? Потому ли, что семена конопли там и сям еще в древности использовали для изготовления вин, банных омовений или разной дурноты? Нет, конопля в первую очередь пригождалась человеку для изготовления пряжи, а из нее поскони (тоже древнейшее слово), для домотканых одежд – от прочных рубах, до рабочих штанин, мешковин…
Вот и приходится в рассказе о конопле, вынужденно кратком, прибегнуть напоследок к сухой этнографической скороговорке.
Выдернутые из почвы своего клина зрелые стебли обколачивают цепами, увязывают в снопы, подвергают длительной вымочке в речках, озерах, прудах (это единственное, что я краем глаза всё же рассмотрел); но затем снова привозят к жилью, высушивают досуха, мнут на деревянных мялках, треплют особыми деревянными же трепалами, чтобы стряхнуть с высохших волокон остатки коры, то бишь костру , всякий мелкий сор. Как девичью косу, дочиста расчесывают сухие волокна прочными деревянными гребнями, получая, наконец, пушистые легкие комья – кудель . А уж как из кудели с помощью прялок и веретен прядут нити для последующего ткачества, об этом теперь искусный экскурсовод допоет вам заученную до последнего словца былину-старину, наверное, в каждом втором краеведческом музее.
Мама моя, которая самое лоно сельской жизни знала с пелен, в пожилые свои годы не раз и не два вспоминала, что бабушка Дарья не только пряла из кудели конопляную нить, но и сама ткала из нее посконь для шитья рубах. Догадываюсь, ее ткачество относилось не только ко времени маминого детства, чтобы разом и навсегда прекратиться с приходом мануфактурного ткачества. Жаль, что я где-нибудь в закутах фёдоровской хаты (или горища, или дедовой мастерской) не рассмотрел, как следует, этих странного облика деревянных мялок, трепал и гребней и в недоумении не озадачил старших своим привычным «а що цэ такэ?»
У меня осталась в запасе лишь одна-единственная путеводная ниточка к тому домашнему ремеслу бабушки Даши. Мы с ней стоим в хате у окна, и она, повздыхав-повздыхав, наконец, просит, чтобы я помог ей провести кончик какой-то очень толстой нитки в очень крупное игольное ушко, а то ее уже подводят глаза или пальцы дрожат: всё промахивается и промахивается…
Первая притча
Се, изыде сеяй да сеет…
Мф. 13, 4 И зачем тебя посреди сна тормошат, что-то невнятное бормочут, заставляют просовывать непослушные руки в рукава, ноги в штанины, обувают, нахлобучивают шапку на голову, выводят из хаты на холод, в ночь?.. Зачем?
Лишь учуяв под собой знакомый шорох соломенного настила, а сверху теплую тяжесть овчины, расслышав первые мягкие толчки колес, ты смиряешься, зеваешь…
Значит, так почему-то нужно. Ведь это не чужие тебе руки будили, одевали, собрали куда-то. Разве кто из них захочет тебе худого?..
Но вот телега останавливается. Если бы она катила и дальше, так бы себе и спал, спал. Но она почему-то стоит.
Высунув голову из-под воротника дедова тулупа, различаю низкое, серое, лохматое небо. Его так много, куда ни поведи глазами, будто кроме него ничего и нет вокруг, – ни солнца, ни деревьев, ни зеленой горы, что всегда-всегда стоит напротив нашей хаты. И оно такое чужое, заспанное, примятое, это небо. Или ему неприятно, что его кто-то застал в таком дряхлом виде?
Слышу откуда-то сбоку кашель деда Захара, но его не видно рядом. Тележная скамья, на какой он обычно сидит и правит вожжами, пуста.
Куда это мы попали? Приподнимаюсь со своей лежанки и различаю: под небом темнеет безлюдное, распаханное, уходящее куда-то во все стороны поле. Мне нетрудно догадаться, что это именно поле и что оно вспахано. Ведь поле есть и у нас в селе, прямо перед дедушкиной хатой. Но, как теперь понимаю, то поле, что осталось в селе, его и смешно полем назвать, настолько оно мало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


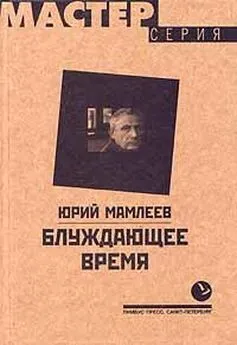

![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](/books/409230/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3.webp)