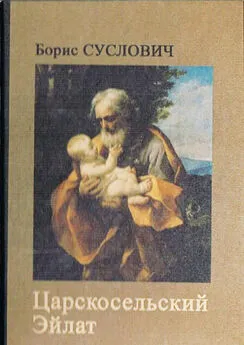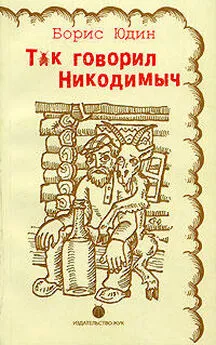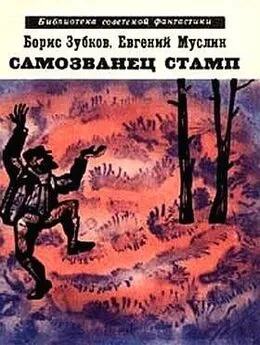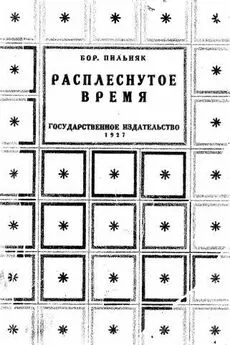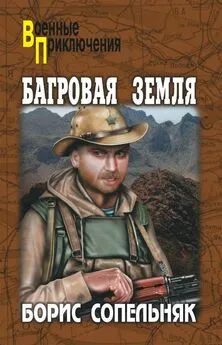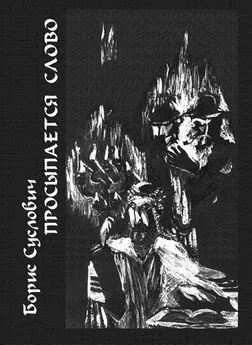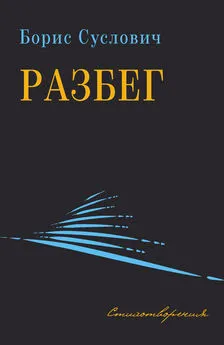Борис Суслович - Царскосельский Эйлат (сборник)
- Название:Царскосельский Эйлат (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98856-185-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Суслович - Царскосельский Эйлат (сборник) краткое содержание
Царскосельский Эйлат (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Получается, что Пушкин был переведён в Одессу волевым решением министра Нессельроде, поскольку там уже находился. Никаких дополнительных хлопот со стороны Тургенева не понадобилось. Гуданец реконструирует события по-своему. Проще говоря, перевирает их. Но он идёт дальше, обвиняя Пушкина в корыстном расчёте: «Сеятель» якобы был послан Тургеневу, чтобы его «подчеркнуто антилиберальное звучание» облегчило последнему хлопоты о возвращении опального поэта в столицу. Чтобы согласиться с подобной трактовкой, нужно кое о чём забыть. В январе 1823 года поэт послал Нессельроде прошение о предоставлении ему «двух-трёхмесячного отпуска» , чтобы посетить столицу. Просьба в феврале была доложена царю и отклонена, о чём 27 марта Нессельроде сообщил Инзову ( 10 ). Стало быть, «Сеятель» не мог быть связан с надеждами его автора на возвращение в Петербург: таковых в природе не существовало. Точно так же, как в письме Дельвигу не было ничего, кроме тоски по оставленным друзьям. Понятно, что хитроумная конструкция «обвинения» рушится. Но и это не всё. Несмотря на « подчеркнуто антилиберальное звучание », стихотворение было впервые опубликовано через много лет после смерти поэта, в эпоху Александра II, о чём мы уже говорили. Неужели среди окружения Александра I или вскоре воцарившегося Николая не нашлось никого, кто бы заинтересовался опусом «ренегата», «с циничным малодушием отрекающегося от своих либеральных идеалов» ? Или всё обстояло «с точностью до наоборот»: «Сеятель» при всей его горечи и безысходности оказался заведомо «непроходным» стихотворением для своей эпохи. Между прочим, Александр Тургенев был не только «вельможей» , но и братом декабриста. К тому же одним из образованнейших русских людей. Ничего удивительного, что он был адресатом Пушкина. Наряду с Дельвигом и Вяземским.
Следующая статья Н. Л. Гуданца « “Пропасть комплиментов” или Партизан в тылу самодержавия» , опубликованная в журнале «Крещатик» (№ 1, 2010 год), посвящена беседе поэта с императором Николаем, состоявшейся 8 сентября 1826 года. Вот что мы узнаём: «основное содержание беседы… стало известным со слов самого Николая I, который в апреле 1848 г. рассказал графу М. А. Корфу: “Я, – говорил государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву… Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? – спросил я его, между прочим. – Стал бы в ряды мятежников, – отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием – сделаться другим”… Злополучная фраза императора… исчерпывающе разъясняет один из узловых эпизодов жизни Пушкина… Оказывается, никакого секрета нет, и гадать не о чем. Беседа длилась долго, причем говорил преимущественно Пушкин. Он почтительно льстил самодержцу, разгромившему мятеж декабристов… Вне всякого сомнения, 8 сентября Пушкин распинался перед монархом именно в подобном ключе…»
Мы уже знакомы с манерой уважаемого исследователя выражаться категорично, безапелляционно. И всё же «сомнения» остаются. Судите сами: после шести лет ссылки поэт неожиданно оказывается лицом к лицу с новым императором. Пушкин понятия не имеет, что его ожидает. Зато Николай прекрасно подготовлен к беседе и искусно направляет её в нужное русло. «Пропасть комплиментов» , по-видимому, была «наговорена» за несколько минут. Пушкин не мог ни « распинаться », ни « говорить по преимуществу ». Первое противоречило его характеру, второе – придворному этикету. Не будем забывать, что Николай Павлович, передавая графу М. Корфу содержание беседы, старался представить себя в наиболее выгодном свете. В 1848 году упоминание об обещанных сразу после коронации реформах выставило бы императора либо лжецом, либо человеком, отказавшимся от своих же намерений. А разговор об этом, конечно же, был – и тому есть неопровержимое свидетельство. Речь идёт о стихотворении «Стансы» . Гуданец лишь вскользь упоминает о нём. Между тем сравнение молодого царя с неутомимым реформатором Петром I носит явный отпечаток недавней беседы.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье .
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник .
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен .
Послание поэта к новому императору содержит и ожидание грядущих реформ: «во всём будь пращуру подобен», и надежду на облегчение участи ссыльных декабристов: знаменитая последняя строка. Да и записка «О народном воспитании», написанная «вскоре после аудиенции» и оставшаяся нереализованной, писалась в рамках ожидаемой реформы народного просвещения. Вновь приходится констатировать полную несостоятельность версии, предложенной уважаемым критиком. Прежде чем перейти к разбору следующей статьи, обращу внимание на два момента. Первый: критик уделяет массу места разбору противоречий, встречающихся в советской пушкинистике. Между тем ещё в 1932 году её характеристика была дана В. Ф. Ходасевичем в уже цитируемой статье «О пушкинизме»: «…для людей, действительно любящих Пушкина, говорить о нем с марксистской точки зрения невмоготу… Поэтому советскому пушкинизму ничего не остается, как ограничиваться накоплением и регистрацией фактического материала… Никакие рассуждения, никакие обобщения и выводы там сейчас невозможны… Для советского пушкинизма настают времена, когда, как всему живому в России, ему придется уйти в подполье… Это будет вполне естественно, ибо большевикам не нужен и вреден не только пушкинизм, но и прежде всего – сам Пушкин» . ( 1 ) В свете этого выпады Н. Л. Гуданца представляют собой не более чем «переливание из пустого в порожнее».
Второй момент связан с отношением декабристов к Пушкину. Цитируется письмо И. И. Пущина И. В. Малиновскому: «“Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России…”. На этом цитату принято обрывать, потому что дальше говорится: “…хотя не всем его стихам поклоняюсь; ты догадываешься, про что я хочу сказать; он минутно забывал свое назначение и все это после нашей разлуки”» . Гуданец вполне обоснованно возмущается, что вторая часть фразы вымарывалась советской цензурой. Но далее следует поистине цирковой кульбит: «Многоопытная цензура и тайная полиция совершенно правы, “своих” отдавать на заклание нельзя. Можно пожертвовать грязной пешкой вроде Булгарина, но покорный и продажный ферзь останется сиятельной фигурой … Ренегатов и прихвостней следует оберегать, они должны быть сыты при жизни и окружены посмертным почетом… Духовные наследники Бенкендорфа и Красовского свято блюдут ведомственные интересы, и даже спустя полтора века цензура будет отовсюду вычищать ропот нерчинских узников в адрес Пушкина» . Мы попадаем даже не в цирк, а в театр абсурда: Пушкин, до конца жизни бывший под полицейским надзором, обязанный давать жандармам отчёт о каждом своём перемещении, даже после смерти считавшийся «опасным либералом», «главой демагогической партии»( 11 ), записан чуть ли не в сотрудники III отделения. Прочитав подобное, сам Александр Христофорович Бенкендорф был бы изрядно удивлён. Фантастика, да и только.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: