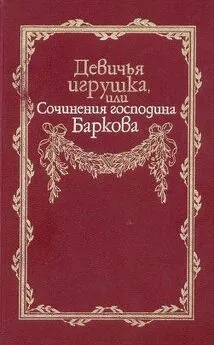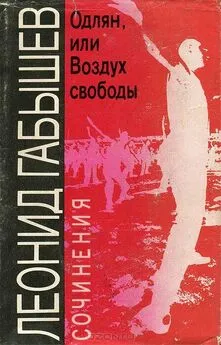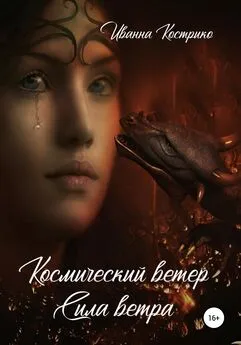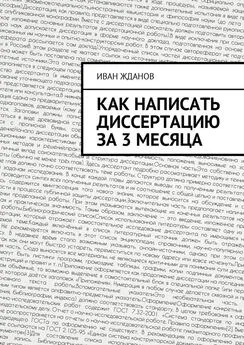Иван Жданов - Воздух и ветер. Сочинения и фотографии
- Название:Воздух и ветер. Сочинения и фотографии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91627-183-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Жданов - Воздух и ветер. Сочинения и фотографии краткое содержание
Издание второе.
Воздух и ветер. Сочинения и фотографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А если предположить, что жизнь человека – одна, то тем более любое умаление ее может выглядеть как насилие, потому что человек – это не только его физическое присутствие здесь – наличие вообще – это еще и его время, которое, может быть, не собственность его, но и отнимать его у него никто не может – о Боге тут помолчим: Он-то и дает миру человека вместе с его временем.
На этом свете на всех не хватает места – а на том? Сколько угодно!
Вдруг обнаружить в своей руке трещотку прокаженного перед толпой – или посреди толпы сочувствия…
Край спора, граница противостояний – вовсе не игра ума, а взаимодействия континуумов, выплескивающих на поверхность всю мразь демагогии в целях неблагородных. Это как помешательство, стремящееся иметь пристойный, благоразумный вид, столь же нелепый, как и цель спора. Уж лучше совсем расшатать границу (линию) – до бесконечности…
Через слова, предметы, явления истории просвечивает язык. Праязык. И время от времени его слышит слух. Сначала наиболее чуткий. Потом язык становится доступней все большему количеству людей. Вот почему истина, понятная в древности немногим, делается всеобщей впоследствии. Слышится сразу и целиком. Или можно как бы по кусочкам собрать нечто и увидеть как целое (в новейшее время)… Где-то сквозь глубину всех вещей, объединяя их, как ветви одного дерева, просвечивает буквенница этого языка. Есть много способов прочесть его, но смысл его один и тот же во все времена.
Предмет – овеществленное, воплощенное время. А слово, обозначающее предмет? Назвать – значит овеществить, а не развоплотить. Оставить, чтобы находился. Был, существовал, жил. Стал тем, что противоположно небытию. Время овеществляется в предметах, но оно и развоплощает их. Язык, слово дает им жизнь вечную. Правда, есть и другое время: время, которое воплощается в языке. И это даже никакое не сверхвремя. Потому что есть время, которое воплощается и в нем, то есть в том времени, которое воплощается в языке и которое является, в свою очередь, сверхвременем для того времени, которое воплощается в предметах. Но тут следует остановиться. Вот солнце – оно же предмет, оно – овеществленное время, у него есть имя в языке, а язык – как будто другое воплощенное время, более высшее, что ли, по отношению к тому, которое воплощено в солнце. Но ведь солнце старше своего имени на любом языке и, возможно, проживет дольше любого языка. Как же так? И что если в каждом языке, языке преходящем живет язык вечный?
…возникает искушение оставить полотно, растянутое на пяльцах, без вышивки, а холст на подрамнике без письма… Есть образ (стереотип) картины: вот холст, на нем должно быть что-то нарисовано. Это, как если есть сосуд, то он должен быть чем-то заполнен. Диктат формы, инерция условного долженствования. Поэтому и возникает иллюзия, что достаточно одного холста (полотна), чтобы дать представление о семантике… В голом холсте уже присутствует семантика, отсылающая к образу живописи с этакой большой буквы. Отсюда – возможность оппозиции, которую можно обыграть и иронически; но этот иронический «протест» против самого стереотипа неконструктивен: ибо форма, материя (звук, краска, слово) преодолеваются в искусстве, где нет места оппозиции… Ни пессимизма, ни оптимизма – а есть нечто превышающее как то, так и другое.

Внутри деревьев падает листва
1971
Взгляд
Был послан взгляд – и дерево застыло,
пчела внутри себя перелетела
через цветок, и, падая в себя,
вдруг хрустнул камень под ногой и смолк.
Там тишина нашла уединенье:
надрезана кора, но сок не каплет
и яблоко надкусанное цело.
Внутри деревьев падает листва
на дно глазное, в ощущенье снега,
где день и ночь зима, зима, зима.
В сугробах взгляда крылья насекомых,
и в яблоке румяно-ледяном,
как семечки, чернеет Млечный Путь.
Вокруг него оскомина парит,
и вместе с муравьиным осязаньем
она кольцо срывает со зрачка.
В воронке взгляда гибнет муравей,
в снегу сыпучем простирая лапки
к поверхности, которой больше нет.
Там нет меня. Над горизонтом слова
взойдут деревья и к нему примерзнут –
я никогда их не смогу догнать.
Там тишина нашла уединенье,
а здесь играет в прятки сам с собою
тот, кто вернуть свой взгляд уже не в силах,
кто дереву не дал остаться прахом,
Иуды кровь почувствовав в стопе.
Крещение
Душа идет на нет, и небо убывает,
и вот уже меж звезд зажата пятерня.
О, как стряхнуть бы их! Меня никто не знает.
Меня как будто нет. Никто не ждет меня.
Торопятся часы и падают со стуком.
Перевернуть бы дом – да не нащупать дна.
Меня как будто нет. Мой слух ушел за звуком,
но звук пропал в ночи, лишая время сна.
Задрал бы он его, как волка на охоте,
и в сердце бы вонзил кровавые персты.
Но звук сошел на нет. И вот на ровной ноте
он держится в тени, в провале пустоты.
Петляет листопад, втирается под кожу.
Такая тьма кругом, что век не разожмешь.
Нащупать бы себя. Я слухом ночь тревожу,
но нет, притихла ночь, не верит ни на грош.
И где-то на земле до моего рожденья,
до крика моего в мое дыханье вник
послушный листопад, уже мое спасенье.
Меня на свете нет. Он знает: будет крик.
Не плещется вода, как будто к разговорам
полузаснувших рыб прислушиваясь, и
то льется сквозь меня немеющим задором,
то пальцами грозит глухонемой крови.
Течет во мне река, как кровь глухонемая.
Свершается обряд – в ней крестят листопад,
и он летит на слух, еще не сознавая,
что слух сожжет его и не вернет назад.
Баллада
Я поймал больную птицу,
но боюсь ее лечить.
Что-то к смерти в ней стремится,
что-то рвет живую нить.
Опускает в сердце крылья,
между ребер шелестит
и порывами бессилья
неотступное двоит.
А глаза в холодной схиме,
и нельзя никак прочесть
там созвездьями иными
в буквы сложенную весть.
Не намеренно – случайно –
воздух клюва пригублю,
настороженную тайну
ненароком разделю.
…Вот по плачущей дороге
семерых ведут в распыл.
Чью беду и чьи тревоги
этот воздух сохранил?
Шестерых враги убили,
а седьмого сберегли.
Шестерым лежать в могиле,
одному не знать земли.
Вот он бродит над землею,
под собой не чуя ног,
мерой Бога именною
бесконечно одинок.
Снегопад бывает белым
и не может быть другим.
Только кто же мажет мелом
в сон свивающийся дым,
если в мире, в мире целом
только он и невредим?
Он идет, себя не пряча
в исчезающей дали,
потому что тех убили,
а его убить забыли
и случайно сберегли.
Сберегли его, не плача,
память, птица, пар земли.
Интервал:
Закладка: