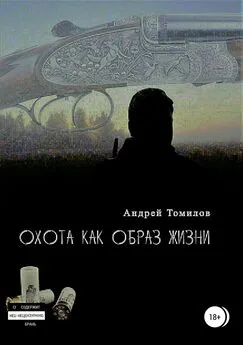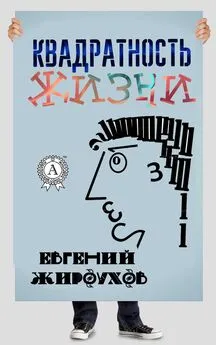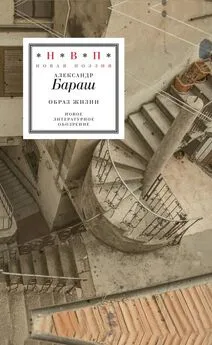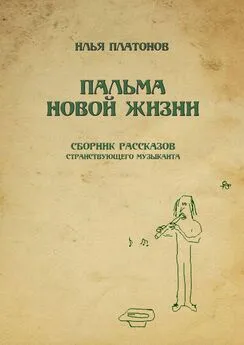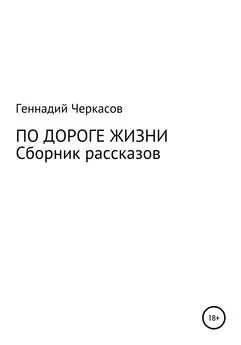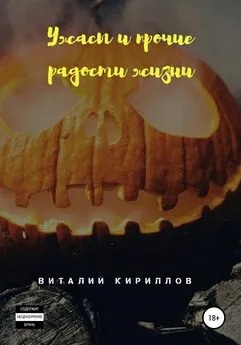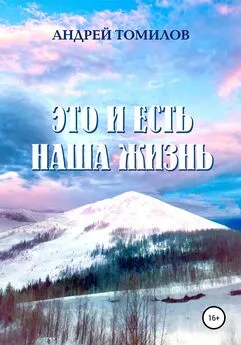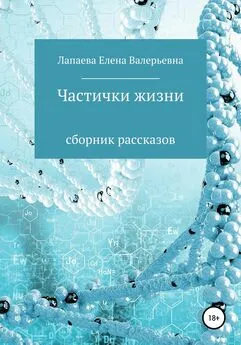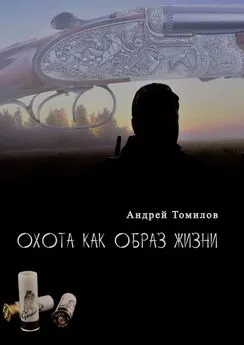Андрей Томилов - Охота как образ жизни. Сборник рассказов
- Название:Охота как образ жизни. Сборник рассказов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Томилов - Охота как образ жизни. Сборник рассказов краткое содержание
Охота как образ жизни. Сборник рассказов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Территория промхоза охватывает поймы двух независимых друг от друга рек. Огромных и красивых. Красивых, каждой по-своему. Одна, – Киренга, питается с гор и несет чистые и прозрачные воды, она будто даже строга и значима как классная дама в день экзамена.
А Ханда пополняется болотами, воды ее желтые, настоянные на кореньях множества различных растений. Двигаются эти воды медленно, вальяжно, кажется, что они и вовсе могут остановиться, но статус реки обязывает, и посему движение все же есть, умудренное, важное, вечное…
Болотная река Ханда безобразно извилиста и, если смотреть сверху, с вертолета, то просто диву даешься: как же она сама не путается в своем русле, вся пойма изрисована завитушками, загогулинами и прочими узорами.
Совсем не сравнить со строгой, в большинстве своем прямолинейной и торопливой Киренгой.
Но природа распорядилась так, что они, в конце концов, встретились. Даже будто бы шарахнулись друг от друга, наделав в месте слияния массу проток и островов, но, убедившись, что противиться бесполезно, что надо как-то мириться, осторожно соединили воды и покатили их в одном русле, но, прижавшись к разным берегам, боясь встретиться взглядами, и нервно вздрагивая оттого, что приходится соприкасаться в середине русла. Но и там граница прослеживалась еще долго, еще несколько километров можно было четко отличить воды Ханды от прозрачных потоков Киренги.
Но вот за очередным поворотом весело расплескались на шиверном перекате и не заметили даже, как влились одна в другую, а, перепутавшись, здесь же уравнялись, породнились и дальше уже устремились, удвоив все свои лучшие качества. А воды уже несли столько, что и буксирные баржи поднимали без особого труда.
Весной же, по большой воде, до районного центра заходили и более значимые речные суда, – завозили все необходимое для обеспечения жизни северного района. Даже солярку и бензин завозили водой.
Правда разговор шел о каком-то мифическом строительстве железной дороги, что будто бы она свяжет Байкал с неведомым и далеким Амуром, но в это мужики не верили. Отмалчивались больше, и не верили, – не забылись еще рассказы отцов о начале строительства сталинского БАМа. Народу в те годы полегло на стройке множество. Правда и народ-то был с гнильцой будто бы, – враги одни, да больно уж много. Так и не построили дорогу, зря сгинули. Лучше бы лес рубили, вон его сколько кругом.
И действительно, лес стоял по берегам рек могучий. По Ханде, так всё боры сосновые, красивейшие боры, с беломошниками, а кедрачи какие, это в средней части реки, да и в низовьях, – ох и кедрачи! Коней в промхозе не хватало, чтобы орехи вывозить.
Нескончаемым потоком шли обозы, груженные таежным деликатесом в сторону города.
По Киренге же, тайги в основном темные, часто еловые куреня, пихтач буйно расплёскивался по распадкам. А по хребтам листвяги, дурнинушкой тянулись к облакам.
А солнце в горах какое! – Боже мой! – кажется совсем рядом. Правда это только летом, – изжариться можно, ох и печёт, зимой, конечно, тепла поменьше, но радость от встречи с солнцем не умаляется.
Райцентр, где и располагалась центральная усадьба промхоза, удалён от города аж на полмесяца конной дороги, или на три часа самолетной болтанки, с двумя промежуточными посадками в не менее глухих таежных поселках. Просторы огромные, расстояния меряются не иначе как переходами, конными, либо пешими.
Великие таежные пространства родят непомерные богатства: ягоды, грибы, орехи, рыба, мясо, птица всевозможная, а уж о пушнине и толковать не стоит, дюже богатые места. Вот осваивать эти места силенок пока не хватает, не шибко много находится охотников в лютые холода, за тридевять земель от жилухи, всю зиму тайгу ломать.
Вернее сказать, желающие-то есть, только за такую цену они не хотят и не будут сдавать промхозу соболей. Тем более что если потихоньку в город вывезти этих лохматинок, то за них можно вполне нормальные деньги поиметь, настоящие, – в три, а то и в пять раз большие, чем промхоз дает.
Тут как-то журнал попал к охотникам, в нем рассказывалось об аукционе, где сибирских собольков забугорным толстосумам, буржуинам проклятым продавали. Так вот, вычитали там мужики, что один, особо красивый соболь, был продан за такие больше деньги, что на них можно было купить целый железнодорожный состав зерна. Это больше чем полсотни вагонов получается.
Мужики глазами друг на друга похлопали и молча разошлись. Не обсуждали. Каждый и без того знал, что издеваются над ними откровенно, не стесняясь.
* * *
Карта промхозовская, что висела в кабинете у охотоведа, вся изрисована цветными карандашами. А в центре каждого узора стоит номер и фамилия. Это охотничьи участки. На некоторых фамилии видимо часто менялись, – чуть не до дырочек протерта карта, может участок дерьмовый и не держатся там люди, а может наоборот, – охотовед что-то мудрит.
Однако были и совсем чистые территории на карте, так вершина реки Ханда жирно обведена красным и каким-то нервным почерком в середине написано: "Эвенки".
Нервным, это видимо по той причине, что охотовед там не распоряжается. Там свои законы, эта территория закреплена за эвенкийской общиной, правда, формально они тоже входят в состав промхоза, но своими делами ведают сами.
А вот в вершине другой реки, вообще чистые места на карте. Там не было ни номерков, ни фамилий. Это неосвоенные территории промхоза. Добираться туда очень трудно, – реки горные, дурные, так, что не завезешься, а на себе – по скалам прыгать, тоже много не унесешь.
Вот теперь вертолет стали выделять для промхоза, правда всего пока что на несколько часов, но уже надежда появляется. Можно будет и вершины горных рек осваивать, зимовья там строить, охотиться.
Пока же только геологи имеют возможность залетать туда по своим целям. Но с их слов места там вполне подходящие для охоты, – пологие сопки, верховые болота, из которых и вытекают первые, едва живые ручейки, превращающиеся через сотню километров в непреодолимую реку-стихию с неукротимым норовом.
Ходили, конечно, слухи между охотниками, о невиданных богатствах тех дальних участков, да байки это все, наверное. Разговоры эти велись обычно в полголоса и где-то в уединении, а в большинстве так за стопариком водки. Говорили даже, что будто бы кто-то там уже и охотился, но об этом вообще шепотом говорили и обрывали разговор на полуслове, – не дай Бог до "Кузнечика" дойдет.
"Кузнечиком" охотники нарекли районного охотоведа, – карающий орган. Был он строптив до одури и одержим идеей борьбы с браконьерством до самопожертвования.
Вид же имел близкий к луговым стрекотунам кузнечикам: всегда носил что-то зеленое, либо бушлат, или рубашку, или просто носки, но обязательно ярко-зеленого цвета. И фигуру имел своеобразную, – раздвинутые в стороны острые коленки, обтянутые коротковатыми форменными брюками, отведенные назад локти и хитрое выражение лица, с вытянутым вперед носом, – ну чисто кузнечик. А в довершение всего, он и фамилию имел Кузнецов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: