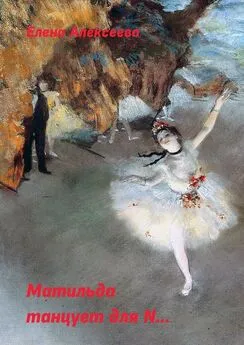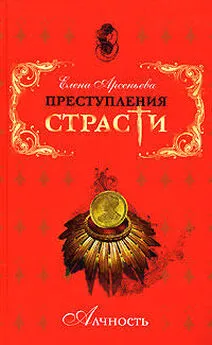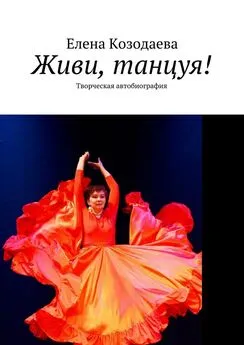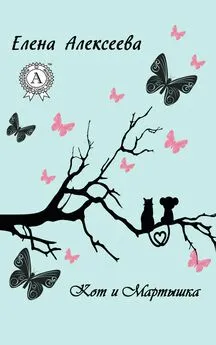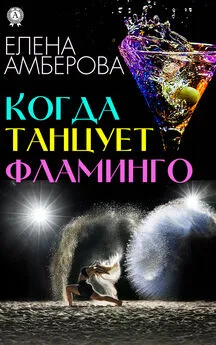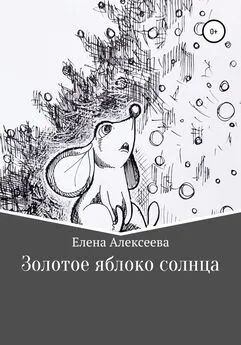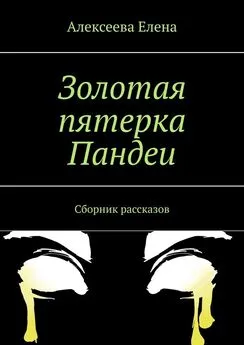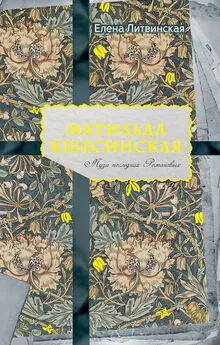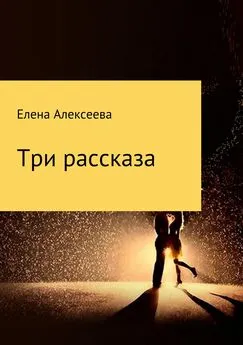Елена Алексеева - Матильда танцует для N…
- Название:Матильда танцует для N…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449030139
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Алексеева - Матильда танцует для N… краткое содержание
Матильда танцует для N… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Художник перевел взгляд на холст – и неожиданно разочаровался.
– Тяжеловато будто… легкости натурной нет и в помине. И не оживает, и не трогает. – Досадуя, он сплюнул. – М-да… мало что вышло. В сущности, ничего.
Короткой минуты сомнения хватило ему, чтобы полностью разувериться в успехе дела. – «Лубок, раскрашенная олеография. Вместо нежной прозрачности вышел этакий розовый ярмарочный пряник… – он дернул плечом, сильно растер ладонями курчавившуюся на щеках поросль; – нет, но Дусе-то определенно не понравится».
Недовольно гримасничая, он отыскал закоченевшими пальцами мастихин и решительно соскоблил край румяного неба. Поколебавшись, заодно уж снес лазурные колонны. («Розовое, голубенькое… сюсю-мусю, грезы чувствительной институтки»). Тем временем быстро темнело, и безвозвратно ускользал такой выгодный – ультрамарин с бирюзой – status praesens…
Профессор Беляков (Дуся, как за глаза звали его академисты) особенно любил и ценил в пейзаже его сквозную ветреность, легкость, прозрачность, – как раз то, чего не обнаружил теперь художник на своем холсте.
– «Несравненная прелесть пленэрного пейзажа – с его чистым цветом, со случайным солнечным лучом, с вибрацией воздуха…» – мягким голосом, нараспев увещевал Дуся (при этом он задумчиво поглядывал на взбухающую сизую Неву: из окна не было видно набережной – и казалось, что холодная темноватая аудитория сама по себе плывет, несется куда-то по свинцовым невским волнам…) Букву «р» профессор выговаривал по-петербургски, – то есть, слегка грассируя. Эта не дающаяся ему «р» перекатывалась меж других, относительно безопасных букв алфавита точно ручей по камешкам, и в устах мечтательно-конкретного Дуси это выглядело даже симпатично.
Непонятно когда и почему – разве что вследствие особой мягкости характера, закрепилось за преподавателем это уютное прозвище.
Дуся носил профессорскую бородку-эспаньолку. Его спокойный высоковатый голос отличался вкрадчивыми интонациями (и даже очки в золотой оправе с овальными, повторявшими форму глаза стеклами так же, словно украдкой, поблескивали в тускловатом свете просторного класса). И почему -то все начинающие академисты непременно ожидали от Дуси каких-то неявных для себя неприятностей (каковые, стоит заметить, и происходят-таки порой от людей подобного вкрадчивого склада). Однако шли годы учебы, а профессор, вопреки опасениям молодняка оставался все тем же милейшим и добродушным Дусей – и в отличие от других преподавателей умел не только толково и внятно объяснить, чего он ждет от своих студентов, но и научить их каким образом следует того достигнуть.
Расхаживая по классу, Дуся вдруг останавливался, снимал очки. Потом, не спеша, тащил из кармана клетчатый платок, дышал на плоско отблескивающие стекла, неторопливо протирал, наводил на люстру. Пропуская меж пальцев рыжеватую бородку, он какое-то время задумчиво рассматривал тускловатые хрустальные подвески.
– «Больше, больше воздуху, господа!.. воздух – вот для нас главное, – негромко, словно бы сам для себя, заключал Дуся, и его мягкий с характерным петербургским grasseyement 3 3 грассированием (франц.)
голос наполнялся энтузиазмом. (И даже само это слово „воздух“ профессор произносил с проникновенной ласковостью). – Да-с, в хорошем пейзаже, прежде всего, необходим вольный дух, свежесть, пространство!»
Помолчав, он проделывал все манипуляции в обратном порядке: совал в карман платок, вновь цеплял на нос очки, безуспешно пытался заправить за уши сопротивлявшиеся дужки. Мечтательные интонации профессорского голоса вызывали желание немедленно распахнуть форточку и впустить, наконец, в качестве натурщика хоть немного этого столь обожаемого Дусей воздуха (который в Петербурге целиком состоит из крепкого невского ветра, да еще и с особым ледяным, полярным привкусом).
– «Есть ли он у меня этот воздух?» – художник чихнул и, уныло терзая нос, глядел на холст. Вновь сравнивал свое творение с сиреневой реальностью – и вновь выходило не в пользу холста. Действительность, словно бы его дразня, выглядела особенно живой, подвижной, ветреной, – да еще и звучала на разные голоса. Загромыхало в водосточной трубе – гора ледяной крошки с пугающим шумом изверглась на тротуар. По низу заметно подмораживало; холодный воздух насквозь, до дрожи пронимал весенней прелой свежестью.
– «А нужно чтобы так же зябко как мне теперь стало бы всякому кто будет глядеть потом на картину. И чтоб услышал он, например, как с крыш капает, как шуршат, шаркая по снежной крупе калоши той бабы в сером платке… Определенно есть какая-то загадка. Не умение, не техника… но что? Взять того же зрителя: вроде бы посторонний для меня человек – а запросто ведь распознает и мой настрой и эту промозглую сырость. Так себе получился этюд, – но сам-то я точно знаю, каков он должен быть. И не водит ли моей рукою тот, кто хочет через меня доставить свой взгляд на этот мир? И не следует ли из моих предположений, что я с моим даром ничто – всего лишь проводник, инструмент в чьих-то руках?.. Говорят же, что пленэрный этюд есть прикосновение к Богу…» – Ему вдруг представился людный вернисаж. Подле большой ярко освещенной картины (не той, что стояла сейчас на этюднике, – но другой, прекрасной, главной, которую он непременно когда-нибудь напишет) кругами ходят зрители. Поначалу они пробегают мимо – потом, словно споткнувшись, возвращаются. Подойдя ближе, молча вглядываются, оценивают самые мелкие детали, рассуждают про композицию, колорит. Хвалят.
Кто-то пятится, разглядывая картину в кулак. Хорошенькая барышня с серьезным и строгим видом быстро пишет в переплетенную сафьяном книжечку. (Не раз уж замечал он это пристрастие барышень писать на вернисажах – непременно какая-нибудь похожая на курсистку девица деловито строчит тонким карандашиком). – «И чего они только там расписывают? И если бы еще хоть что-то понимали в нашем деле».
Будучи не в силах отвлечься от приятного видения, художник застыл, обняв себя за суконные черные локти. И таким заманчивым представился ему образ будущей картины: увитые зеленью арки, легкие фигуры – и все это нежно расплывается, мреет в прозрачном итальянском воздухе…
Не замечая холода, он смотрел на желтые фасады. Внезапный порыв ветра едва не сорвал с головы шляпу. Хлопнув по тулье, художник поежился, потянул носом, вынул изо рта папиросу (глаз давно уж слезился от едкого дыма), отбросил в сторону. Тлеющий кончик начертил в сиреневатом воздухе светящуюся алую дугу, веером искр рассыпался по мостовой. Художник наобум потыкал кистью в палитру и, подступившись к холсту, тронул основание колонны, бросил недостающий блик на фасад, подсинил масляные небеса. Нужно было спешить. Отложив кисть, он мастихином растушевал верхний угол, наскоро подправил пальцем. Близко вглядываясь, невнимательно вытер палец и мастихин разноцветной тряпкой. Прищурившись, вновь приценился к улице: бутылочный блеск льда, гармония парных колонн, общая мягкая освещенность. И все это – прелестное, легкое, цветное – не давалось, ускользало, не желало переселяться на полотно…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: