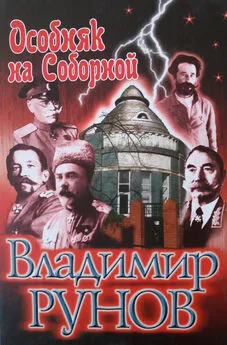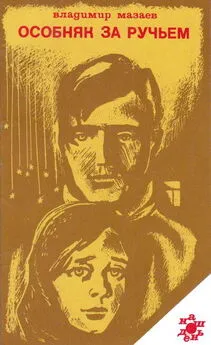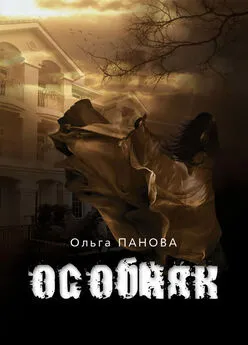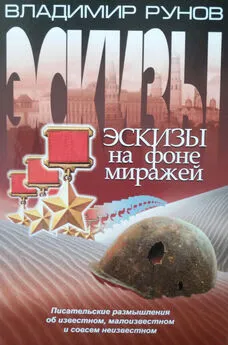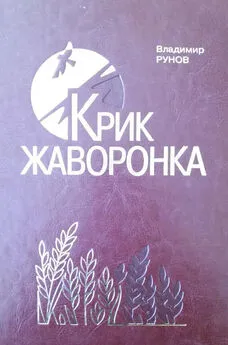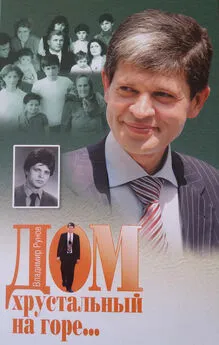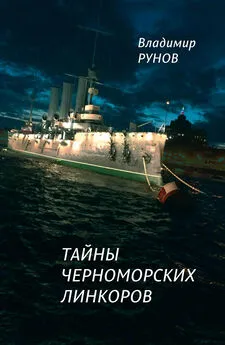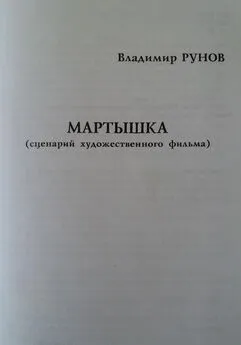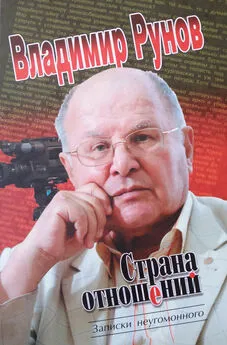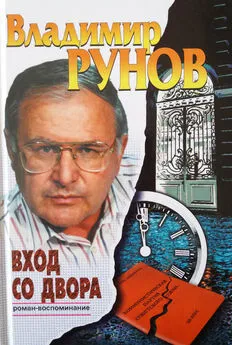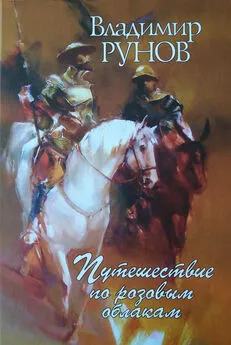Владимир Рунов - Особняк на Соборной
- Название:Особняк на Соборной
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:Краснодар
- ISBN:978-5-906785-07-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Рунов - Особняк на Соборной краткое содержание
Особняк на Соборной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Крупный кинохудожник современности, правнук еще более великого русского живописца, дабы напитаться духом пращура, под блики телекамер втащил в музейные фамильные покои раскладушку и переночевал там в обнимку со светлыми думами, и тенью давно умершего предка.
Право же, в наши «пиаровские» времена (которые мало чем отличаются от пиратствующих), не так просто удержаться от подобных искушений, особенно когда тебе «ни за што – ни про што» титул сулят вкупе с засургученной прошнурованной грамотой, с правом входа «в приличное общество», да еще в треуголке, вицмундире, при шпаге, гусарских лосинах, в золотом плетении аксельбантов, орденах величиной с тарелку, во всяких там галунах-ментиках. Само собой, обращение непривычное: «Милостивый государь!». Ну, не прелесть ли?
Правда, когда однажды сильно выпивший новоиспеченный «герцог» вполне пролетарски послал на три буквы всех присутствующих дворян, лично я решил с титулом повременить, мотивируя отказ чистосердечным признанием, что некоторые мои предки больше семи классов не окончили и меньше пяти лет не получили, и уж совсем не за классовые убеждения, которых у них сроду не было, а за пьяную драку на армавирском вокзале в базарный день…
В лужковскую Москву Марина Антоновна Деникина приезжала охотно и не раз, а вот на свою малую родину – Кубань поехать почему-то не пожелала. Дама она была весьма эксцентричная и в решениях неожиданная. Как-то попросила своего друга академика Бонгарда-Левина составить ей компанию для посещения Мавзолея. Тот округлил глаза: «Голубушка, вы ж дочь Деникина!..»
– Почему нет? Я литератор, историк. Мне интересно…
И пошла одна, благо нынче к Ильичу очередь сильно укорочена. Помимо прочего, Марина решала в Москве вопросы получения российского гражданства и имела намерение перезахоронить тут прах отца. «…Хотя всю жизнь я пребывала во Франции, но душа всегда оставалась в России и умереть хочу тоже русской, – обращалась она с прошением к Президенту нашей страны. – Три четверти своей жизни я прожила во времена советской власти и гражданства СССР получать не желала, да и не могла. Но когда режим переменился, я захотела получить российское подданство. И вот сейчас прошу Вас об этом…»
Владимир Владимирович Путин просьбу дочери Деникина уважил, а чуть позже состоялся и перенос останков Антона Ивановича. Этому предшествовало некоторое препирательство – где хоронить? Родственники настаивали на Новодевичьем кладбище, а предводители Российского дворянского собрания пошли дальше и предложили упокоить руководителя Антанты у Кремлевской стены. Ну, о каком же упокоении можно говорить, если рядом будут лежать Буденный и Ворошилов? Новым дворянам терпеливо разъяснили, что это не только нелепо, но и безнравственно.
И тогда инициативу взял в свои «железные» руки Никита Сергеевич Михалков, тот самый, что ночевал в красноярском музее своего прадеда, художника Сурикова. Он решил проблему мудро и оптимально – Антона Ивановича погребли в Москве, на старом кладбище Донского монастыря. Пресса было зашумела о неком завещании покойного по этому поводу, но дочь развеяла слухи:
– Никакого завещания не было. Умирая, папа говорил маме, что оставляет нам незапятнанное имя и жалел, что так и не увидит свободную Россию. Я долго думала, давать ли разрешение на перезахоронение, но в итоге решила, что с таким вариантом папа бы согласился…
Вскоре, к сожалению, умерла и графиня Кьяпп. Судьба ей подарила долгую и удивительную жизнь. До конца она сохраняла ясную память и улыбчивую доброжелательность, и в своих телефильмах о трагедии белого движения Никита Михалков отдал должное ее воспоминаниям – ясным, точным, окрашенным личными впечатлениями о событиях и людях. Она ведь очень многих знала и когда писала книгу о парижских похищениях, проделала огромную работу, встречаясь с участниками той трагедии. Помнила она и Плевицкую, всегда рассказывая о ней с оттенками той добросердечной грусти, которая свойственна русскому, особенно женскому, характеру. Много лет спустя после смерти певицы, Марина поехала в маленький городок в Эльзас-Лотарингии, где за старинной крепостной стеной томилась Плевицкая. Французский издатель заказал ей книгу о русской эмиграции. Марина, собирая материал, захотела своими глазами увидеть темницу, где навсегда умолк «курский соловей». Она хорошо помнила рассказы отца о суде по делу похищения Миллера, куда Деникин был вызван свидетелем. У Антона Ивановича никогда не было сомнений, что Плевицкая – подлая изменница и несмотря на обычную сдержанность, в отношении ее возмущался горячо и искренне.
– Предавать своих, да еще за деньги – самое пакостное дело! – гремел он со свидетельской скамьи – Вот в зале сидит Александр Федорович Керенский. Не скрою, мы с ним часто спорили, во многом не соглашались друг с другом, но он ведь в бытность премьер-министром ни копейки не потребовал за службу Родине! Об участии в этом преступлении присутствующей здесь госпожи Плевицкой я не желаю даже рассуждать. Да, мне нравились ее песни. Мне казалось, что вся загубленная Россия рыдает ее голосом. Я помню ту зимнюю ночь в Екатеринодаре, когда у меня стыла кровь в жилах не от холода и ветра, а от пронзающих душу и сердце слов. Поверьте, я пережил многое и потерял многих, но даже в страшном сне после всего пережитого не предполагал встретиться с коварством, перед которым бледнеют средневековые жестокости. Мне очень не хотелось бы разувериться в людях, их благородстве, но, видимо, наступают времена, которые в прах обращают лучшие нравственные достижения человечества…
Антон Иванович не хотел, чтобы дочь посещала судебный процесс, но она работала корреспондентом известного журнала и бывая в зале по репортерским делам, общалась с известными соотечественниками, писателями Марком Алдановым и Никой Берберовой. Алданов, друг Рахманинова, Бунина, Моруа, Хемингуэя, раскачивался как китайский буддист – никак не мог поместить в свою гениальную голову происходящее:
– Ах, Скоблин, Скоблин! – причитал он. – Как понять – смельчак, умница, самый молодой генерал белой армии – и вдруг чекист… Боже, что творится! – шептал он в седую бороду.
Берберова пристально глядит на скамью подсудимых и быстро пишет в блокнот: «Строит из себя деревенскую дурочку, округляет глаза, причитает, как у плетня: «Охохонюшки, завела-то судьба-судьбинушка! Вот забросила невинную душеньку…» Господи, есть ли предел коварству? – возмущенно восклицала писательница. Бледный, как изваяние, Керенский сидит не шелохнувшись, куда и подевалось его красноречие, тоже понять ничего не может.
И тем не менее, ждали какого-то снисхождения, исцеляющей жалости – все-таки потерявшая все несчастная женщина… Но приговор оказался более чем суров – двадцать лет одиночки, а потом еще десять без права жить во Франции. Но это уже было излишне – летом 1940 года Плевицкая умерла прямо на гранитном полу, не добравшись даже до топчана.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: