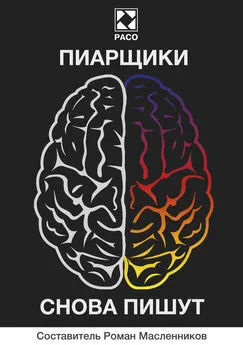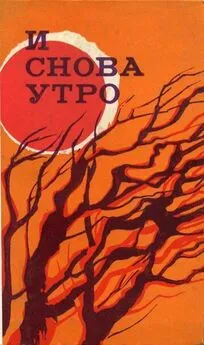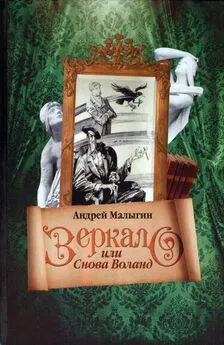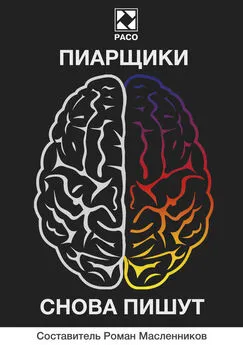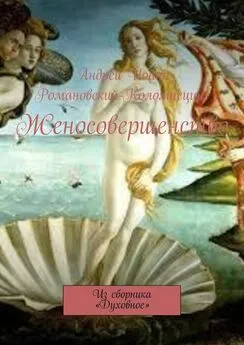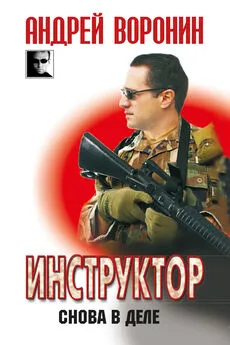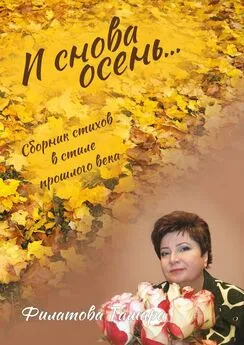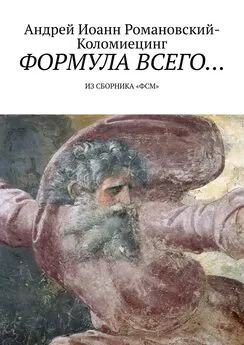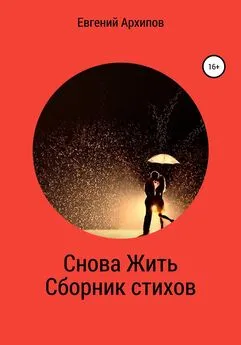Андрей Травин - Пиарщики снова пишут (сборник)
- Название:Пиарщики снова пишут (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российская Ассоциация по связям с общественностью
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Травин - Пиарщики снова пишут (сборник) краткое содержание
Роман Масленников снова объединяет таланты.
Лорды пресс-туров и баронессы роад-шоу, герцоги медиа-аналитики и герцогини коммуникационного аудита, генералы раскрутки и солдаты антикризисных коммуникаций, мастера персонального пиара и маргариты брендинга, ильфы GR и петровы IR… Небожители снова снизошли к Вам, Читатель!
Все знают, что PR-специалисты всегда на работе. 24/7. Но взращенное в себе волшебство и природная изворотливость все-таки позволяют найти 25, 26 и 27-й часы для творчества.
Вашему вниманию предстанут: современно-женственная СОФЬЯ ЛЕБЕДЕВА, экзистенциальная НАДЕЖДА ПЛЕТНЁВА, крепкий по-хеммингуевски АНДРЕЙ ТРАВИН, изысканный ОЛЕГ ВЯЗАНКИН, романтичный ДМИТРИЙ ФЕДЕЧКИН, ретроспективные СЕРГЕЙ ГРАЧЁВ И СЕРГЕЙ НИКУЛИН, экспрессивный МАРАТ МУРАДЯН, разный-разный ВАЛЕРИЙ МАЛЬЦЕВ, увлекательная ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА, серебряная КСЕНИЯ ВЛАСЮК, космичная и реалистичная ИРИНА ЕСИПОВА. У Вас сложатся другие эпитеты? Конечно!
Один из авторов данного сборника достоин «Нобелевской премии по литературе», второй – «Премии Гёте», третий – «Премия имени Андерсена», четвертый – «Премии Гринцане Кавур», а пятый – Нейштадтской литературной премии. Кому – что, вы догадаетесь сами.
Сборник творчества отечественных PR-специалистов выпущен при поддержке РАСО (Российской Ассоциации по Связям с Общественностью), www.raso.ru
Пиарщики снова пишут (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нас снова крепко обманули?
Под равномерный сердца стук,
Пока мы бьемся с лишним весом,
Зачем летят с передовой
Обломки «Невского экспресса»,
Напалм и сера, грязь и гной?
Вокруг горят чужие свары,
Мы все уже который год
С безумной тенью Че Гевары
Лезгинку пляшем – не фокстрот.
Мы – в середине в чьем‑то споре.
И – нам писать, скорей всего,
Разбитым носом на заборе:
«Make love!»
И, мать его, – «Don`t War»!!!
Заговор пишущих
В прошлом году мы ездили в Крым. Уже не помню, из‑за чего у нас с женой начался разговор о масштабе славы Макса Волошина (а мы как раз собирались сплавать до Коктебеля), но супруга гордо заявила:
– Ну, мои‑то подруги в курсе, кто такой Волошин!
Поскольку с нами как раз отдыхала ее лучшая подруга, я не преминул проверить, насколько это соответствует истине, и спросил:
– Оль, ты Волошина знаешь?
Подруга нахмурила лоб и поинтересовалась:
– А это кто – родственник ваш?
После этого, уже вернувшись домой, я ради интереса провел опрос среди более информированных людей. В итоге выяснилась прелюбопытная вещь, на которую прежде не обращал внимания: известность того или иного поэта золотого или серебряного века в сознании ныне живущих не особо связана с его творчеством. Если вообще как‑нибудь связана. Попробуйте потерзать своих друзей – знакомых сами: про Городецкого вам скажут, что это – друг Есенина, а про Бурлюка – что друг Маяковского; об Андрее Белом вспомнят, что он пытался увести жену у Блока, и разве только имя самого Александра Александровича навеет воспоминания конкретно про ночь, улицу, фонарь, аптеку и двенадцать человек… Тонны стихов и прозы, хотим мы того или нет, для большинства остаются той Terra Incognita, куда нога жителя некогда самой читающей в мире страны ступает осторожно и нечасто, причем обычно – только после настоятельной просьбы школьного учителя. Да простят мне ленинскую формулировку, но страшно узок круг тех, кто по – настоящему хорошо (подчеркиваю: по – настоящему!) разбирается не только в перечне имен или хитросплетениях биографий, но и тысячах томов литературного наследия. Давайте говорить откровенно: многие ли смогут слету прочесть наизусть стихотворение Вяземского, Полонского или Бальмонта? Даже матерые филологи – сразу ли вспомнят, что можно процитировать из Сологуба, Надсона, Мариенгофа и других «родственников»? Хотя имена, конечно, на слуху… А попробуйте‑ка вспомнить сами. Ага, попались?!
Но вот что еще интересно: ведь и круг литераторов, если разобраться, был страшно узок! На заседаниях «Арзамаса», в «Башне» у Иванова или в том же коктебельском доме Волошина по определению не могло собраться больше, чем на каком‑нибудь питерском полуподпольном «квартирнике» застойных 70–х. И рассчитывали‑то многие не на миллионы читателей – на себе подобных, и только. Элитарность даже культивировалась. К примеру, футуристы, которые весьма увлекались «поэзо – концертами» и работали, таким образом, на более или менее широкую публику, вместе с тем делали все, чтобы эта самая публика их не принимала. Дело не только в матерных или просто обидных для зрителя/слушателя строчках Маяковского – кому‑то словесные оплеухи типа «у вас в усах капуста» были даже в удовольствие. Попробуйте прочитать «Железобетонные поэмы» Каменского – сами все поймете. Прочие постарались не хуже. Что за «лебедиво»? Какой еще зинзивер тарарахнул – о чем это?! Все это словотворчество Word до сих пор подчеркивает красным – время будетлян так и не настало. Да, интересно. Да, необычно. Но – не близко. И это – литераторы еще более – менее известные. А есть ведь еще Чурилин, Шершеневич, Введенский, Гуро… «Кто это – родственник?»
Есть еще и «фильтр времени». Проходят десятилетия, и даже самые гремучие стихи, которыми восхищались современники, начинают казаться устаревшими и неповоротливыми. Время не щадит даже классиков, среди пострадавших – и Батюшков со своими Зевесовыми десницами, и Некрасов с Гришей Добросклоновым, и Брюсов с каменщиком в фартуке белом. Но список больше. «Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям» – какой учитель литературы уговорит вас лунной майской ночью читать это «программное стихотворение» Ходасевича любимой? Ну не ползут от этого мурашки по коже! Прорывается настоящее, цепляющее, жутковато близкое и у Владислава Фелициановича – но только когда он начинает наотмашь бить ангелов «ременным бичом». А до этого читающему еще добраться надо.
Так как же «немногие, писавшие для немногих и по – настоящему близкие и понятные немногим» сумели выбраться из своих высоких башен (куда были заточены на долгие годы не без участия советской цензуры) на всероссийский простор, чтобы печататься немыслимыми для «Аполлонов» и «Сириусов» тиражами? Почему до сих пор на слуху имена тех, чьи стихи на самом деле известны только специалистам (тем, которые знают, что Гуро – это не «родственник», а «родственница»)?
Причина видится в том, что пишущие люди… тянут за собой других пишущих. У каждого выбившегося в классики есть длинный «шлейф». Самый показательный пример: едва ли не весь золотой век как‑то незаметно стал «приложением» к Пушкину. Насколько бы талантливыми и самобытными ни были другие поэты первой половины XIX века, мы привыкли мерить их «нашим всем» – видимо, потому, что более яркую, «таблоидную» фигуру найти сложно. Тут и прадед – эфиоп, и женитьба на великосветской «топ – модели», и вечное фрондирование, и, наконец, «точка пули в конце» – дуэль, только благодаря которой некий француз в российской истории и остался. В «приложения» попали люди совершенно разные, начиная с венценосцев – Александра и Николая. Жуковский, может быть, тоже писал не хуже Пушкина – но он не стрелялся на дуэлях. Вяземский по молодости тоже был фрондером – но в истории он так и будет вечным «другом Пушкина», за что ему прощается даже работа на посту руководителя главного цензурного управления – хотя, казалось бы, что для либеральной интеллигенции может быть ненавистней, чем такая должность? Лермонтов тоже классик и фрондер, имеет в биографии предка – шотландца и точку пули, но и тут «недотяг»: нет той любвеобильной жизнерадостности, которая так нравилась – и нравится! – в Пушкине. Да и дуэль с Мартыновым была не из‑за самой красивой женщины на свете, а… По большому счету, мы до сих пор и не знаем, из‑за чего она была – то ли правда окончательно допек Мартынова наш классик (что при его ангельском характере очень легко представить), то ли сам господин майор страдал болезненным самолюбием и усмотрел в словах Михаила Юрьевича то, чего не было. Но если на стороне Пушкина мы однозначно, то в случае с Лермонтовым как в том бородатом анекдоте – колечко‑то нашлось, а осадочек остался…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: