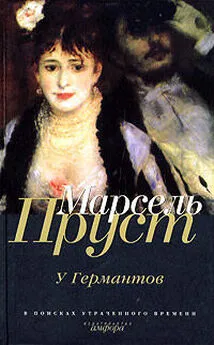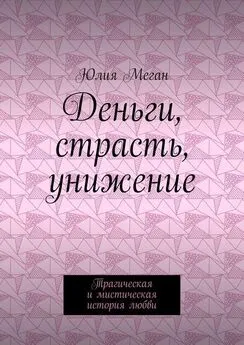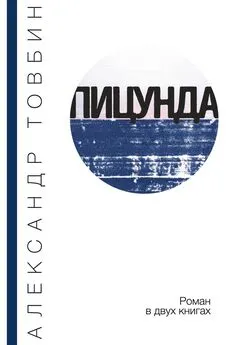Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
- Название:Германтов и унижение Палладио
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Геликон»39607b9f-f155-11e2-88f2-002590591dd6
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93682-974-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио краткое содержание
Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?
Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков. Однако бежало все быстрей время, чувства облегчения он уже не испытывал, даже воспоминания о нём, желанном умилительном чувстве, предательски улетучивались, едва взгляд касался матового серенького прямоугольничка, при любых вариациях пасьянса лежавшего с краю, в отправной точке отыскиваемого сюжета, – его словно гипнотизировала страхом нечёткая маленькая фигурка, как если бы в ней, такой далёкой, угнездился вирус фатальной ошибки, которую суждено ему совершить. Да, именно эта смутная фотография, именно она почему-то стала им восприниматься после семидесятилетия своего, как свёрнутая в давнем фотомиге тревожно-информативная шифровка судьбы; сейчас же, перед отлётом в Венецию за последним, как подозревал, озарением он и вовсе предпринимал сумасбродные попытки, болезненно пропуская через себя токи прошлого, вычитывать в допотопном – плывучем и выцветшем – изображении тайный смысл того, что его ожидало в остатке дней.
Германтов и унижение Палладио - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так-то, повторял и повторял он, как если бы удивлялся немудрящему своему открытию. Поцелуями в диафрагму только голливудские сказки итожатся, у раскадровки всякой судьбы, выясняется под конец пути, – особый, но непременно безутешно-пустяковый финал. И пусть смерть на миру красна, общего как для уходящей эпохи, так и для каждого из нас «звука лопнувшей струны» или «всхлипа», предсмертного эпохального всхлипа «на весь мир», всхлипа, собравшего и сгустившего как миллионы тихих личных самооплакиваний, так и хоровой плач по цельной культуре, нет и уже не будет. Дождаться суждено лишь заключительной, адресованной тебе одному, презрительно-издевательской, насмешливой или плаксивой зрительно-тональной ремарки.
Прощальной ремарки, посвящённой тебе, но лишь обозначающей, не требуя отклика, ибо откликнуться ты не успеваешь всё равно, твой уход?
Вот-вот: жди заключительную ремарку.
Пока он ворочается в постели, прощальную и окончательную, как точка, ремарку-картинку с затухающим ли, оборванным резко звуком для него, специально для него всё ещё сочиняет, если уже не сочинила, предусмотрительная судьба?
Какова она, та финальная, назначенная ему свыше картинка-нота? Что выпадет ему, именно ему, одному, увидеть-услышать, что? – испытал жутковатое любопытство Германтов, словно захотелось ему приблизить свой зримо-звучащий последний миг.
А за этим мигом что, что? «Он повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна темноты…»
Что за скорбная навязчивость с утра пораньше, чуть свет?
Приоткрытая филёнчатая дверь, гроб с кукольным тельцем тёти Анюты на чёрных кожаных сиденьях четырёх, два против двух, стульев, у гроба – незнакомые, бедно одетые старички и старушки, очевидно, знавшие когда-то Анюту по активной стадии её жизни; одному из старичков сделалось совсем плохо, он нюхал, шумно и влажно шмыгая, нашатырь; ну да, мама была на гастролях в Новосибирске и не смогла приехать, Сиверский пропадал в Москве на бесконечной достройке вроде бы давно отстроенной и уже отмеченной главной премией страны высотки Университета; конец метельно-сырого февраля, хилые еловые веточки вместо живых цветов… Кто-то из старичков покрутил ручку патефона, полился тихонечко, с плывучими шипениями, поскрипываниями и потрескиваниями, траурный марш, ну да, Анюта обожала Шопена. Он-то напрасно водил Игоря по Петропавловской крепости и Эрмитажу, не в коня корм, а вот Анюта, сверхнаивная упрямица, Анюта-идеалистка, непреклонная Анюта-праведница, Анюта-провидица, безнадёжно больная, едва передвигавшая ноги, когда-то, получается, не зря показывала ему Витебский вокзал. Он был занят собой, гуляя с Игорем, да и всегда – и до запомнившейся почему-то прогулки с Игорем, и после – был занят только собой, своими драгоценными нетленными идеями, а она… Настолько был занят собой, что даже не дрогнул, не то чтобы прикрикнул на Игоря, когда тот случайно разбил один из двух синих венецианских бокалов, оставшихся от Анюты. А она? Не зря Анюта, когда мучительно-медленно брела с ним по Загородному в сторону Витебского вокзала и обратно, в сторону их дома, к Звенигородской, говорила и говорила. Никакой учебной морализации, просто-напросто делилась своими бесчисленными изумлениями, накопленными за долгие годы, вроде бы беспорядочно о том и сём говорила, о самых разных разностях заводила речь, а ни словечка – мимо; получается, о главном для неё самой и для него, и без умилений-сюсюканий, говорила, серьёзно; и права оказалась – его, немногое тогда понимавшего, оцарапали, изранили даже её слова, так больно оцарапали-изранили, что до сих пор застряли в стариковской памяти, бередят. И запела мама – со сцены ли, с пластинки, хотя голос её доносился откуда-то сверху, из-за потолка; круглолицая, с гладко зачёсанными наверх тёмными блестящими волосами, с васильковыми огоньками глаз, – гори, гори, моя… Да, она пела и на домашнем застолье в ту незабываемую новогоднюю ночь, да, она пела, Оля Лебзак обнимала её за плечи, и мама тогда едва ли не всю ночь пропела, и как же теперь, теперь, нежно и требовательно трогали внутренние струны, доносясь из прошлого, вопрошавшие слова, прощальные интонации: глядя задумчиво в небо широкое, вспомнишь ли лица, давно позабытые? А наутро болела голова, и ёлка осыпалась, мама веником сметала в совок иголки, заодно выметала из углов конфетти. И что же стряслось с отцом, что значит – пропал? И дым папироски заклубился над пишущей машинкой, над стопкой казённых листков, взятых для перепечатки домой со службы; сестра Анюты и дальняя кузина отца Соня, Соня-пулемётчица, как с обязательным вздохом называла её соседка, проживавшая за стенкой, оборвав дробную очередь букв, читала ещё не выучившему таинственно звучавший язык Юрочке вслух по-французски Пруста. Правда, Юрочка вырастал уже из коротких штанишек, быстро вырастал, но Соня и грудного младенца бы соблазнила музыкой прекрасной французской речи: нескончаемая и полифоническая, тонко нюансированная прустовская мелодика была, по внутреннему убеждению Сони, куда полезней детскому уху и тем паче восприимчивой и трепетной детской душе, чем, к примеру, рифмованные назидания Маршака с Чуковским. Соня… так и не разгаданный сфинкс. Дым папироски улетучился, материализовался ноябрьский, дождливый, с облетевшими каштанами Львов, мокрый, с чёрными лентами и увядшими букетиками, желтоватый холмик не без труда найденной свежей Сониной могилы; да, опоздал на похороны.
В который раз уже вздрогнул. Почудилось – Катя укоризненно посмотрела с настенного застеклённого фотопортрета.
Как нелепо погибла Катя, как нелепо.
Череда гробов, могил…
Наболело… И вдруг боль прорвалась, будто б вытекла из него, растеклась, он будто бы уже тонул, пуская пузыри, в собственной захлёстывающей боли.
Каким самовлюблённым отстранением – нам-то ещё жить и жить! – сопровождаем мы умирание других… И как ничтожны перед шагом в забвение все те сиюминутные заботы, которыми мы засоряем дни.
Странно-то как, внутренняя боль его – снаружи, накатывает извне волнами, захлёстывает; так хочется пожалеть себя. Или – пуще того – оплакать. Дал волю эго… Но тут же вновь испытал ещё и укол стыда. Стыда за всё, что сделал и не сделал, за всё, что убеждённо ли, бездумно написал и наговорил?
Сколько раз намеревался начать с чистого листа в ближайший понедельник, но понедельник за понедельником исчезали в прошлом, а так и не начал жить по-другому: тему судьбы не переменить.
Спохватился… Итоговая расплата за то, что высокомерно ставил своё увлечение искусством впереди жизни? И конечно, заслонялся искусством от жизни-смерти, использовал его как щит: натуральная жизнь обращается в тлен, тогда как эфемерности искусства – вечны; великие художники и писатели и вовсе считали подлинной реальностью лишь самое искусство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: