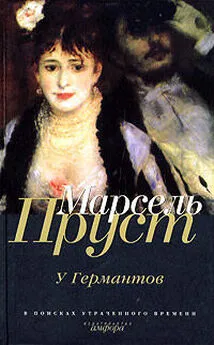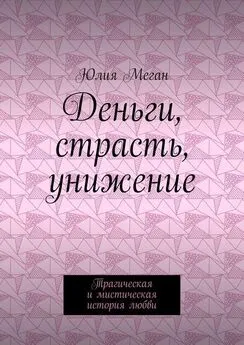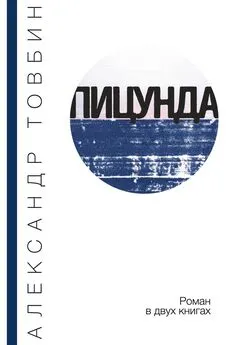Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
- Название:Германтов и унижение Палладио
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Геликон»39607b9f-f155-11e2-88f2-002590591dd6
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93682-974-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио краткое содержание
Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?
Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков. Однако бежало все быстрей время, чувства облегчения он уже не испытывал, даже воспоминания о нём, желанном умилительном чувстве, предательски улетучивались, едва взгляд касался матового серенького прямоугольничка, при любых вариациях пасьянса лежавшего с краю, в отправной точке отыскиваемого сюжета, – его словно гипнотизировала страхом нечёткая маленькая фигурка, как если бы в ней, такой далёкой, угнездился вирус фатальной ошибки, которую суждено ему совершить. Да, именно эта смутная фотография, именно она почему-то стала им восприниматься после семидесятилетия своего, как свёрнутая в давнем фотомиге тревожно-информативная шифровка судьбы; сейчас же, перед отлётом в Венецию за последним, как подозревал, озарением он и вовсе предпринимал сумасбродные попытки, болезненно пропуская через себя токи прошлого, вычитывать в допотопном – плывучем и выцветшем – изображении тайный смысл того, что его ожидало в остатке дней.
Германтов и унижение Палладио - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он не знал своих бабушек и дедушек, их не было в живых, когда он родился, и это незнание не могло не обеднить его эмоциональный мир, ибо дедушки-бабушки омывают детскую душу особой, отличной от родительской любовью.
Но по сути он не знал и своих родителей.
– Ты будто подкидыш, бедненький мой, – вздыхала мама; потом и Сиверский подкидышем-кукушонком называл, ероша Германтову волосы и поблескивая очками… Конечно, подкидыш, кто же ещё: полдня проводил у Анюты с Липой – у них, кстати, тоже были старинные иллюстрированные журналы; попозже, когда немного подрос – мог часами торчать у соседа, художника Махова, вдыхая пьянящие ацетоново-олифовые запахи масляной живописи, всматриваясь в чудесно возникающие на холстах из-под ударов кисти загадочные изображения.
Обучение и воспитание примерами, впечатлениями?
И словами, само собой, но – без дидактики?
Возможно.
Никто – ни Анюта с Липой, ни Махов, ни Соня, – специально и целенаправленно ничему его не учили и учиться не заставляли, никто направленно – что такое хорошо, что такое плохо – не воспитывал; до чего же вольно он, оказывается, рос! Сказка, да и только! Никто ему не давил на психику.
И он, словно в благодарность за это приволье, никого не отвлекал вопросами, капризами, шумными играми… Он никому из домашних не надоедал, никому не доставлял неприятностей, не давал и поводов для естественного материнского беспокойства – ни кори, ни ветрянки, ни скарлатины; он не простужался даже, не помнил, чтобы ему когда-то ставили градусник…
Он не знал отца, почти не знал мать…
Да, отец исчез до его рождения, на нет и суда нет, а вот мама никуда не исчезала, а он только видел её, да и то изредка и как бы бесконтактно, со стороны – видел и старался запомнить плавные движения, поворот красивой головы; и слышал, конечно, как она пела. Когда она последний раз пела дома? Пожалуй, на встрече Нового года, да, да – на встрече тысяча девятьсот пятидесятого года, отмечали середину века… Или всё же это была встреча другого Нового года, попозже? И был он, соответственно, старше? Не проверить, по малости лет он вполне мог что-то с датировкою перепутать, а больше никого из тех, кто звенел в ту ночь бокалами, уже нет в живых. Но что точно, то точно: тогда ли, позже, но приехали гости из Львова, дальние родственники, Александр Осипович Гервольский с женой Шурочкой. Они за полчаса до боя курантов и гимна, мощно исполненного Краснознамённым ансамблем и немецким трофейным радиоприёмником, вернулись из театра имени Пушкина, из бывшей – и нынешней – Александринки, где давали не что-то легкомысленное, как полагалось бы по стандартам репертуара под Новый год, не какую-нибудь там затхлую костюмную комедию положений с переодеваниями, пощёчинами и сочными поцелуями, а премьеру «Живого трупа»; жарко обсуждали игру Симонова – Феди Протасова, и Лебзак – цыганки Маши. Сверкала нарядная ёлка, сверкал бутылками и баккара стол. Сиверский, искромётно-весёлый громовержец и по совместительству – тамада, произносил басовито-баритонные тосты-пожелания; бабахая пробками, пили замороженное шампанское, потом «Столичную» водку и «Цинандали»… Вдруг – звонок, явилась заснеженная Оля Лебзак собственной персоной, с гитарой и слегка уже захмелевшая в другой компании, у друзей-артистов, пировавших неподалёку, на Бородинке. О, восхищённо зааплодировать стоило сразу, едва Оля в перспективе коридора, небрежно тряхнув плечами, превратила снежинки в капли, скинула котиковую шубку на руки Сиверского! Фантастичный новогодний сюрприз для четы Гервольских, им подарили продолжение потрясающего спектакля. Однако Оля – в белой блузке, коричневом расстёгнутом жакетике и удлинённой болотно-зелёной юбке со смелым разрезом – сошла со сцены академического театра не только для заезжих гостей, но и для десятилетнего – о нём, на счастье, все позабыли, не отправили спать – Юры Германтова; не исключено, что и вообще для него одного сошла. Как она там, на сцене, покоряла и с ума сводила Федю Протасова, Германтов не знал, но он, видевший Олю раньше лишь мельком, теперь никак не мог уже уберечься от её манящей и опьяняющей близости, от неё, такой распутно-живой, горячей, нервно и будто бы обречённо откидывающей с бледного чела волнистую прядь тёмно-каштановых волос, от её серых, гипнотично-порочных, брызжущих запретными желаниями глаз и вкрадчиво-развязных движений; как остро, пряно пахли её духи… Оля жадно отпивала из большой запотевшей рюмки водку – кто ей на тарелку от избытка чувств подкладывал буженину? – и что-то, чудесно подзаряжаясь огненными глотками, с надрывной, но и с приглушённой при этом, как бы загнанной вовнутрь горечью плакальщицы, заранее оплакивавшей скорую собственную погибель, пела хриплым низким голосом, аккомпанируя себе на гитаре. У неё был, пока пела, прожигающий и при этом влажно-замутнённый какой-то, словно горючими слезами размытый взгляд… И как же он, потрясённый звучащим зрелищем и своим живым участием в нём, судорогой насквозь пробитый, не способный к простейшим умозаключениям, её полюбил, сразу и навсегда полюбил, испытав первый на своём веку и потому ошеломительный прилив эротизма. Голова закружилась, знакомые лица понеслись по кругу, как если бы все родичи и гости расселись не за столом, а на быстро-быстро крутящейся карусели; к тому же незаметно для себя и гостей сделал несколько больших глотков «Цинандали»; под каждый тост Сиверский с шутовскими гримасами делал глубокий вдох и салютовал – выдувал-выстреливал из какой-то трубочки свой салют; из пневматических залпов рождались ярко-рассыпчатые облака конфетти, и мигали-перемигивались разноцветные лампочки, мерцали, зеркалисто бликовали стеклянные ёлочные шары, пики, гирлянды золотого и серебряного дождя, да ещё кто-то из гостей слепил фотовспышками. За волной чувственности накрыла и – будто ещё и острое что-то пронзило сердце – зрительно-звуковая волна, тут же, на глазах, в вибрациях барабанных перепонок рождавшегося искусства. Как пела она, как пела; дорогой длинною, да ночкой лунною… Да, опять-таки впервые на своём коротком пока веку ощутил он, что две стихии – любви-страсти и искусства сливались в Оле, в её затуманенном взоре, дрожащем на грани срыва, но необъяснимо плывучем голосе, нервных движениях рук и плеч. Она, собственно, и была воплощением-олицетворением их, этих стихий, и обе эти стихии, слившись в одну, олицетворённую ею, теперь и его захлёстывали, он тонул, чувствовал, что тонул, пускал пузыри… Бывают ли настоящие цыганки с серыми глазами? – не мог не подумать Германтов, вспомнив о повадках вокзальных черноглазых гадалок, и тут цыганский романс вместе с Олей, в два голоса, но в отличие от Оли – без надрыва, а протяжно, будто б с долгой измучивавшей болью, исторгавшейся из неё, так что боль ту не оставалось сил сдерживать, запела мама, и, казалось, на длинной дороге в лунной ночи он услышал звон колокольчиков; очищая мандарин, уже не мог понять, кого он любит сильнее – Олю Лебзак или маму?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: