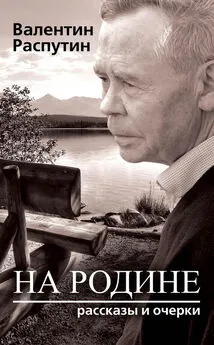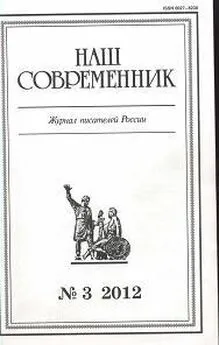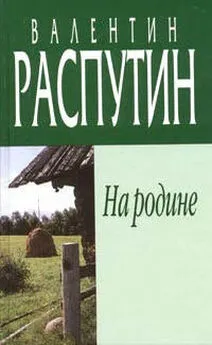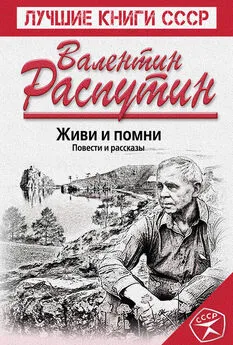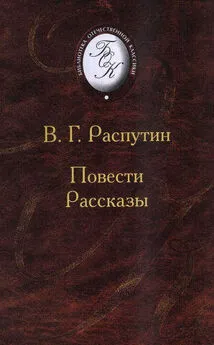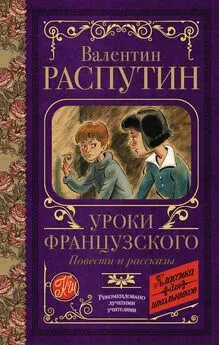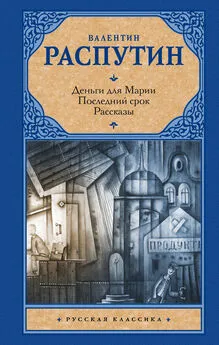Валентин Распутин - На родине. Рассказы и очерки
- Название:На родине. Рассказы и очерки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906798-13-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Распутин - На родине. Рассказы и очерки краткое содержание
Валентина Распутина уже при жизни называли выдающимся писателем и классиком русской литературы. Его произведения пронизаны болью за судьбу народа и родной земли, они наделяют читателя очистительным чувством сострадания, без которого немыслим русский человек. Таким было его видение жизни, такой завет он оставил нам в наследство: любить свою землю и свой народ, быть нетерпимыми к тем, кто лишает людей священной памяти о прошлом.
Эта книга, составлена самим Валентином Григорьевичем из его рассказов, очерков и статей. Она посвящена любви всей его жизни – родному сибирскому краю, воспетым им Байкалу и Ангаре. Данная книга повествует о неразрывной связи человека со своей малой Родиной, о том, как важно сохранять эту связь в современном мире, какой надежной защитой она может стать от его жестокости и равнодушия.
На родине. Рассказы и очерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не станем, однако, преувеличивать бездыханности и полной вымороженности этих мест, они и без того преувеличены. Русский Север по своей суровости не сравним, конечно, с азиатским, но и он не очень-то расслаблял местную рабочую кость, а дальние походы, без которых поморы никогда не обходились, закалили ее еще больше. Если Индигирка их не испугала, значит, в долгих зимовках и тесном товариществе привычны были они не бояться, только и всего. Чтоб знали вы: понизовщики, живущие возле океана, считают, что у них тепло, и это в сравнении с материковой Якутией, где находятся полюса холода, действительно так и есть. Летами же здесь больше всего боятся жары, способной из каждой капли воды выводить комара, от которого не бывает спасения ни человеку, ни зверю.
А приманы, вероятно, заранее разведанные, чтобы завести и остановить тут русских, само собой были. Во-первых, рыбное, оленье и птичье изобилие, которое не иссякло и по сей день. Если и сегодня не иссякло, попробуем представить, что в этих озерах и уловах, на этих едомах и калтусах водилось триста и четыреста лет до нас. Не выбили тут, слава Богу, песца, нечем пока было вытравить чира, нельму и муксуна. Бывший заведующий факторией в Полярном Юрий Караченцев рассказал, как несколько лет назад кто-то из поселка, возможно, из озорства написал в Чокурдах в райцентр жалобу, что в магазине нет мяса. Там удивились не тому, что его нет, а тому, зачем ему быть в магазине, но, отзываясь на жалобу, прислали оказавшуюся в Чокурдахе говядину. Она пролежала несколько месяцев и, потеряв всякий вид и вкус, была убрана с глаз подальше, на нее не позарились бы даже собаки. Когда местным нужно мясо, охотник садится на «Буран» (так называются скоростные автосани), отъезжает недалеко в тундру и высматривает в бинокль, где покажутся олени. Показались – он включает скорость, направляет наперерез им свою железную упряжку и через полчаса уже со свежениной. Крупную рыбу (еду) в отрытых холодильниках складывают в поленницы, мелкую (сельдятку на броски собакам) сваливают кучей на лед.
У предка русскоустьинца не водилось, разумеется, ни бинокля, ни «Бурана», но как мы не страдаем без того, что заведется еще через триста лет, так и он спокойно орудовал имеющимися подручными средствами и пусть при больших физически затратах, но добывал прекрасно и рыбу, и мясо, и мех, теплил и живил ими семью и отряжал в мир из своей новопочинной родины поколение за поколением.
Но прежде чем расчать ее, эту новую родину, он должен был внимательно осмотреться и выведать, чем ему жить, с кем жить в соседстве. С кем жить в соседстве значило в его выборе очень и очень немало. Он хорошо понимал, что тем малым кругом людей, каким они пришли, потомство в добром здравии долго не протянуть и что так или иначе придется родниться с коренным народцем. В этих местах кочевали юкагиры и ламуты (эвены), доходили известия о чукчах, державших свои оленные стада за Колымой. Якуты тогда еще не спустились в низовья Индигирки, и русскоустьинцы впоследствии были правы, указывая на свое первопоселение. Земли, впрочем, хватало на всех, споры, кому где жить, вскоре затихли раз и навсегда.
Ближе всего по местоположению русские оказались к юкагирам, вольно воспитавшимся под могучим тундровым небом в народ бескорыстный, мягкий и опрятный.
Не осталось свидетельств, сразу ли у русских произошло соприкосновение с произросшим здесь народом, или для этого потребовались сроки, но оно произошло, и со временем довольно тесное. Хорошо заметная в некоторых фамилиях азиатчина больше всего юкагирского происхождения. Но от этого не пострадали ни язык, ни обычаи, ни память; вероятно, с самого начала община постановила держать свою русскость в крепости и, несмотря на все испытания и лишения в веках, которые можно только подозревать, выдержала ее в такой сохранности, что ей нельзя не поражаться.
Первое известие о живущих в низовьях Индигирки русских получено от времен Большой Северной экспедиции Беринга. Участник этой экспедиции лейтенант Дмитрий Лаптев, продвигавшийся в 1739 году от Лены на восток, вынужден был напротив устья Индигирки покинуть свой вмерзший во льды бот «Иркутск» и перебраться на зимовку в Русское Жило. За зиму русскоустьинцы помогли Лаптеву перевезти на Колыму за восемьдесят верст триста пудов продовольствия, а весной 85 человек из местных жителей пешнями вырубили «Иркутск» изо льдов и вывели на чистую воду. Позднее русскоустьинцы подобрали возле речки Вшивой небольшой пеший отряд морехода Никиты Шалаурова и перевезли его на Яну.
В этих сообщениях нельзя не увидеть доказательства укорененности русских в северную землю: их немало, они чувствуют себя здесь уверенно, знают тундру далеко на восток и на запад и пользуются русскими и фамильными названиями в обозначении местности: река Елонь (елань), протока Голыженская, речка Вшивая и т. д. Для этого, бессомненно, требовалось время да время.
В книге знаменитого исследователя Арктики Ф. Врангеля «Путешествие по северным берегам Сибири к Ледовитому океану, совершенному в 1820–1824 годах», находим такие строки: «Жители сибирских тундр совершают большие путешествия по нескольку тысяч верст по безлюдным однообразным пространствам, руководствуясь для направления своего пути единственно застругами. Я должен упомянуть об удивительном искусстве проводников сохранять и помнить данный курс». О том же с удивлением говорит М. Геденштром в «Записках о Сибири»: «Для отыскания мамонтовых костей промышленники ежегодно ездят на дальние острова. Путь свой они направляют по положению торосов льда и наметов снега. Долговременная опытность научила их, как распознавать надлежащее направление для достижения желаемых островов».
И тот и другой прошли через Русское Устье и говорят о русских поречанах. М. Геденштром в начале XIX века насчитал в трех селениях 108 мужчин. Через сто лет, во времена Зензинова, их было гораздо меньше. В русскоустьинском языке осталось выражение «зашиверская погань» – об оспе, дважды выкосившей город Зашиверск в среднем течении Индигирки, к которому были приписаны и понизовщики, и погулявшей, надо полагать, и среди них.
Все это, разумеется, не прямые, не документальные доказательства в пользу прилога – о русских, пришедших на Индигирку из России по морю. Это доказательства того, что «могло быть», перевешивающие «не могло». Прямые, вероятно, уже и не сыщутся, поскольку, повторю, тут проглядывается скрытая экспедиция горстки русских людей, явившихся не тогда и не оттуда, как это происходило позднее при колонизации массовой и узаконенной.
Но зачем непременно нужно искать, обманывает или не обманывает предание? Из любви к преданию? Из любви к истине? И то и другое очевидно, но прежде всего из желания понять уникальное, исключительное явление сохранившихся старобытности и староречия. Конечно, XX век не прошел бесследно и для русскоустьинца, и ныне далеко не то здесь, что было в начале столетия, когда писалось: «…Археолог считал бы для себя величайшим счастьем, если бы, раскопав могилу XVI или XVII века, он мог бы хоть сколько-нибудь правдиво облечь вырытый им древний скелет в надлежащие одежды жизни, дать ему душу, услышать его речь. Древних людей в Русском Устье ему откапывать не надо. Перед ним в Русском Устье эти древние люди как бы и не умирали». Сегодня так уже не скажешь, но и то, что осталось в «одеждах жизни» и особенно в языке русскоустьинца, кажется удивительным и заставляет спохватываться: какое нынче на дворе время?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: