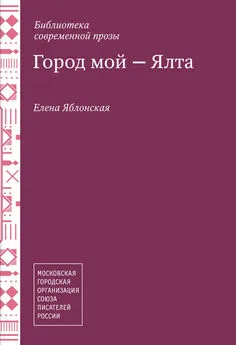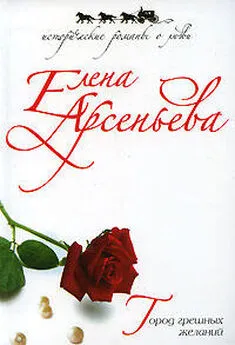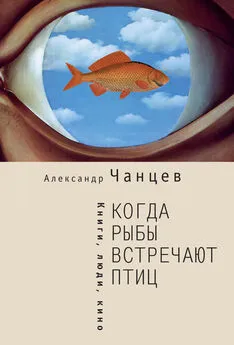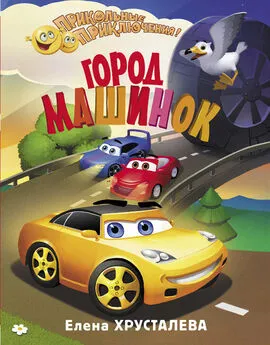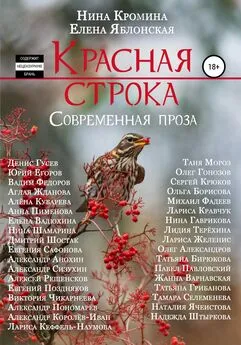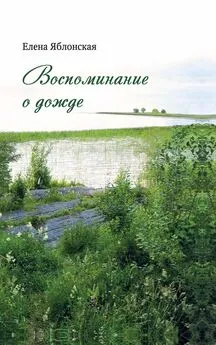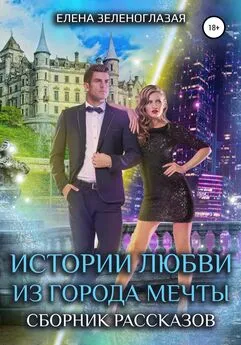Елена Яблонская - Город мой – Ялта (сборник)
- Название:Город мой – Ялта (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Литературная Республика»
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-7949-0450-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Яблонская - Город мой – Ялта (сборник) краткое содержание
Город мой – Ялта (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– А помнишь, как мы в детстве зелёных слив объелись?
Правда, в «морском» дворе на месте спиленных деревьев моего детства теперь чудом пробивается у стенки каменного гаража низенький инжир, молодой, но уже с поспевающими плодами, развешанными равномерно, как ёлочные игрушки. Я потрогала его дружелюбно растопыренные тёплые пятерни и решила, что имею право на один сизый, как бы припорошенный пылью инжирчик. Рыхлая, отсвечивающая фиолетовым алая мякоть обволокла губы и язык терпкой сладостью, а белый вязкий сок из сломанной плодоножки надолго склеил пальцы, и почему-то так не хотелось их отмывать…
В конце августа и в сентябре наш двор бывает усыпан сухими цветками акации. Раньше акаций было много, высоких, раскидистых и старых, почти столетних. Они даже образовали во дворе небольшую тенистую рощицу, называемую нами, детьми, «полянкой» и служившую местом для игр и закапывания «секретиков». Теперь осталась одна только «наша» акация у самого крыльца. В продолжение последних десяти лет мама каждый год озабоченно говорит, что надо бы спилить акацию, а то ведь «подохнет и упадёт на голову», но тут же добродушно добавляет: «А может, я раньше подохну» и велит нам поливать старую дуру, ежегодно, как ни в чём не бывало, выпускающую над самой крышей нежно-зелёные овальные листочки. Во времена моего детства в «морском» дворе огромные шершаволистые шелковицы всё лето роняли на асфальт чернильные кляксы. А осенью у Ханжонкова с гулким стуком падали на крыши сараев каштаны, завёрнутые в щетинистые шкурки цвета июньской зелени. Шкурки лопались, вкусно чмокая и обнажая глянцево-шоколадные каштанчики с матовым кремовым бочком. Мы для каких-то нужд собирали их, меняли, вели целые каштановые хозяйства…
Улица Пушкинская тоже вся каштановая, вперемешку с платанами. Вернее сказать, это не улица, а бульвар напротив нашей школы и вдоль речки, бегущей из водопада Учан-Су и тянущей за собой неестественно густые и яркие космы водяных растений. На ней-то, на Пушкинской, я и увидела объявление о ханжонковском вечере. 12 августа 2007 года. Сегодня. Значит, для меня.
В тёмном и душноватом, несмотря на настежь распахнутые двери, клубе симпатичный киновед Борис Михайлович Арсеньев рассказывал для меня и ещё полутора-двух десятков человек об Александре Алексеевиче Ханжонкове, отставном казачьем офицере, влюблённом в синематограф. О его друге и соратнике, режиссёре Евгении Францевиче Бауэре, сыне обрусевшего австрийца. В роковом семнадцатом режиссёра отпели в ялтинском храме Александра Невского и погребли на «новом» Ауткинском кладбище. Теперь это кладбище называется «старым», там лежат мои бабушка и дед и наш одноклассник Игорь Раскатов, могилу которого только вчера искали мы с Сашкой Семухиным, но не нашли. И могилу Евгения Францевича тоже пока найти не удалось. А ещё нам показали последние два фильма, которые успел снять Бауэр в 1917 году в Ялте. Просили принять участие в конкурсе на проект или хотя бы идею памятника А.А. Ханжонкову. Я думаю, Александр Алексеевич когда-нибудь обязательно будет сидеть у входа в Ялтинскую киностудию около нашей школы. Нет, он ещё не прикован артритом к инвалидной коляске, просто зашёл в своё киноателье посмотреть, как снимается фильма. На низеньком столике перед продюсером фигурка его Пегаса, фирменного знака акционерного общества «Ханжонков и Ко». Кажется, что крылатый конёк сейчас взлетит, выпорхнет, как голубь, из сильных, бережных и щедро распахнутых ладоней Александра Алексеевича… У ног Ханжонкова старинный киносъёмочный аппарат, а за спиной – мгновенно узнаваемый, неповторимый крымский силуэт: скала Парус или Дива, Ласточкино гнездо или Медведь-гора. Нет, лучше просто Поликуровский холм! На фоне холма – переливающаяся в морских и солнечных бликах фигура женщины вполоборота в огромной шляпе – Вера Холодная. Кажется, она тоже сейчас полетит, заскользит вдоль моря, как Бегущая по волнам, как наша единственная и непостижимая страна, страна воинов и очарованных странников, мечтателей, первопроходцев и мореходов, страна, которую мы потеряли тогда, в семнадцатом, а потом в страшной войне чудом обрели вновь, и теперь снова теряем… Но нет конца этой таинственной и высокой судьбе, этой извилистой, тяжкой и всё равно счастливой, счастливой, бесконечно счастливой дороге…
Будет такой памятник возле киностудии и моей школы. Такой или даже лучше. Верно, Борис Михайлович?
Но ведь я не рассказала вам самого главного – как я нашла Дом Ханжонкова во дворе, где прошло моё детство.
Когда-то давным-давно была у меня «летняя» подруга Вика. Она приезжала на лето к бабушке в Ялту. Бабушка Вики жила в такой же дореволюционной, двухэтажной, теперь многоквартирной коммунальной вилле, как почти все дома нашего района. Мы с Викой бегали по тёмной деревянной лестнице, уставленной горшками с пальмами, фикусами и гигантскими алоэ, чьи змеевидные отростки расползались по широким лестничным подоконникам, как тесто из квашни. Почему-то я отчётливо запомнила тяжёлый душный запах этой лестницы. Запах, казалось мне, старости, запах помнивших Надсона, интеллигентных ялтинских старух под полотняными изжёлта-белыми зонтиками. Одна такая очень пожилая дама жаловалась маме на дворовых собак, обижавших её пёсика:
– Представьте, некая собачонка Лада…
Конечно, конечно, про старушек и Надсона я додумала гораздо позднее, а тогда была уверена, что запах исходит от громадного фикуса в облезло-коричневой деревянной кадке. Потом это стало почти наваждением. В Таиланде, в Индии, во Вьетнаме увидев такой привольно растущий под тропическим небом фикус, я всякий раз на мгновение обоняю запах моего детства, бросаюсь к фикусу… Конечно, он ничем не пахнет. Я попыталась войти в этот дом спустя сорок с лишним лет. Увы! Весь он – в пристройках, застеклённых верандочках, серебристых трубах газового отопления, «евроокнах» и прочей столь необходимой для жизни ерунде, из которой вдруг неожиданно выглядывает старая лепнина, – не пустил меня. Всё заборы да закрытые «на код» калитки. Была открыта только одна дверь в подъезд рядом с двором «шестой» школы. Я было сунулась туда и устыдилась: никакой лестницы – прямо за дверью располагалась кухня с раковиной, плитой, газовыми и водяными счётчиками. Я поспешно ретировалась: не объяснишь ведь людям, что я ищу у них в кухне даже не прошлогодний снег – запах сорокалетней давности! Да ещё почему-то с пластмассовым мусорным ведром в руках! И с блокнотом в кармане халата! Но ведь такая или примерно такая лестница могла сохраниться в другом подобном доме. Так я забрела на Боткинскую к Дому Ханжонкова. Войти внутрь, однако, тоже не удалось. К бежевому прицепчику была привязана гладкошерстная тупорылая собака бойцовской породы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: