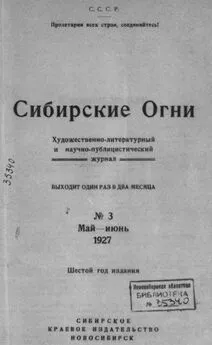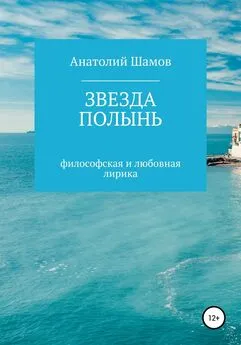Анатолий Сорокин - Сладкая полынь-отрава. Повесть для внуков
- Название:Сладкая полынь-отрава. Повесть для внуков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448327094
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Сорокин - Сладкая полынь-отрава. Повесть для внуков краткое содержание
Сладкая полынь-отрава. Повесть для внуков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ближе к вечеру, миновав два безлюдных, остывших от жаркой летней работы сенокосных полевых стана с лобогрейками, сенокосилками, конными граблями и большими бричками с дробинами, составленными под навесами, мы остановились, чтобы дать передышку тягловым коням, подкормиться скотине. В сумерках проехали третью ферму, где у мамы были дальние родственники, в которых я плохо разбирался, и где опять все долго плакали. Савка поторапливал маму, сердился, что так до утра не доехать, но его не слушали. И еще на пути были разные деревеньки, нисколько неинтересные мне и даже враждебные: чужое – всегда ведь чужое. Сумерки сгустились, упала ночь. Овечки громко блеяли, рвались с поводка и мама металась там, в этой сплотнившейся темноте. Как мы въезжали в Землянку помню смутно. Вроде бы мелькнул ветряк на бугре – огромный, растопыренный, как чучело на огороде, скрипучий, будто раскачивающийся на протезах, – прошелестела под колесами, бредущей скотиной неглубокая речка и сразу пахнуло теплым жильем, тем вечерним, долго не истаивающим запахом всякой деревни, через которую недавно прогнали сытое домашнее стадо, где полно горьковатых дымов, остроты жареного-пареного, где работа кипит уже не в полях, а в огородах и пригонах… Во все это ласковое, умиротворяющее, клонящее в сон ворвался ворчливый старушечьий голос и мама будто бы виновато оправдывалась… Я тоже хотел повинитьсн за то, что, кажется, сплю, и не успел. Жилистые руки бесцеремонно сгребли меня в охапку – это причинило неожиданную боль, я хотел закричать, но скоро уже передумал, на незнакомых руках мне оказалось удобно.
4 Бабушка Тасья
Проснулся я на печи за ситцевой занавеской, долго не понимая, что это обыкновенная печь. Раздавались приглушенные голоса. Приподняв край ситцевой занавески, я осторожно выглянул, невольно пугаясь этой смелости, страшась того, что увижу. Мама сидела за столиком у небольшого окошечка, вдвое меньше нашего прежнего. На сосредоточенном ее лице играли отсветы близкого печного жара. Бабушки из-за припечка не было видно, доносился лишь ее недовольный бубнящий голос.
– Как не жили, мама, а все-таки жили, – несильно защищалась мама. – Не хуже других: чё уж ты нас ни во что не ставишь? В совхоз записались, можно сказать одними из первых – сама благословила, пятый годик пошел с того дня. Вон-а понастроили да земли перепахали, из новины пашню какую сделали, не чета той, на которой ты пласталась.
– Я на себя пласталась, знала, что выращу-намолочу, тем жить стану весь год, надеяться было не накого…
– Так и нам грех жаловаться, все равно лучше, чем в колхозе, не за палочки работаем, а сдельно.
– То и разбогатели за пять лет вашей каторги, последнее износили, ребятишки в обносках, срам прикрыть нечем.
– Всем нелегко, время такое, – неуверенно и сбивчиво защищалась мама, и говорила: – А в работе дак Ваня уж сроду никому не уступал, и к нему с уважением. Премии получал. В бригадиры зазря не поставят. Уж сроду… Скотником был, еще даже не бригадиром, и то на собраньях всегда в президиуме.
– Дак чтобы на видном – это по вашему, по-чуваловски! На все руки – ни отнять, ни прибавить, – через силу соглашалась бабушка. – Подраться доведись – и тут не в последнем ряду. Где хоть один Чувал, там и буза, где… Мое, в молодости трудами великими нажитое, поспущали на ветер и свое не нажили с такой бестолковой властью, зато грудь колесом, все митинги наши! А в котле безразмерном и голая кость сойдет за мясо: и на ложке окажется первой, и брякает громче.
– Мама, ну что ты совсем! Уж старуха, а все… Ну нету ее, твоей прежней жизни, слава Богу, с голоду, как в других краях, не помираем.
– И только, не помираете! А война вот подчистит все под метелку… И-ии, забыла про сытую жисть! За-бы-лаа!.. Тоже войной все закончилось. Баба, с одним наемным работником, а все было свое. Три дойных коровы держала. Две тягловые лошади, жеребчик. Полный двор птицы, овечки.
– И ходила за ними с утра до вечера свету не видела… Цепом сама на гумне…
– А ты – на восьмичасовом? А ты не с четырех утра и не до потёмок?
– Мама, не рви мне сердце! Три года не виделись, мама!
– А ты выслушай хоть раз до конца, мне уже долго с вами не мучиться, старой такой, скажу напоследок все. Много дал вам совхоз? Тыщи-мильоны? Не моя была правда, што так на земле не хозяйничают? Уравняли нищего с голым, а начальство на дармовом словно сыр в масле.
И она выступила из-за припечка. Тонкобедрая, статная, горделивая при всем ее невеликом росточке. Голова с валиком уложенных седых волос запрокинута, будто несет на себе корону небывалого величия. Руки сухонькие и жилистые встряхивают сковородку с блином, ловко сбрасывая на раскатную дощечку сочно янтарный блин, с еще кипящими на нем масляными пузырьками. Вся горячая, распаренная, вся светлая, как светлы ее капли пота на несильно сморщенном лбу, с не очень здоровым, но ярким румянцем на впалых щеках. Губы тонкие плотно сжаты. Носик маленький, восхитительно аккуратный, прям не нос, а конфетка. Какая же она – бабушка Настасья, которую Савка не любит, называя нехорошим словом «казачка», смысл которого непонятен и пугает. Помню и Митины, не чаявшего в бабке души, сказавшего как-то и засмущавшегося, что это мамке было с ней тяжело… Ну, в прошлой, давнишней жизни, заставившей их разъехаться.
А в нынешней?
Ослепленный столь величавой старостью, я обомлел, перевесившись слишком, почувствовал, что потерял устойчивость, ничто меня уже не удерживает на теплом краю лежанки, лечу в пустоту и сейчас расшибусь насмерть о пол. Но не упал, не успел еще до конца напугаться, как руки бабушка ухватили меня, как хватают улетающего курчонка, не дали упасть.
– Эдак че ж он у нас ныряет вниз головой, девки? Это кто же так с печки слазивает?! – На меня смотрели строгие маленькие глазки, похожие на голубенькие бусиночки, проникали в меня бесконечно глубоко и достигали, кажется, самого сердца, в котором заныло, дернулось, напряглось, защемило, предвещая несчастье, которого боялся Савка. Но руки бабушки были мягкими. И вся она, несмотря на худобу, была мягкая, теплая. Глубоко-глубоко во взгляде будто бы строгом и властном взблескивали добрые живинки.
– Я увидел тебя… ты вон-а, какая!
– Ну и какая я у тебя растакая, мамку твою дреколю все утро и уже не хорошая? Не хорошая?
Господин, и голос! Не голос, а весенний ручеек, перекатывающий долгожданные звуки новой набухающей жизни вокруг.
– Не-ее, ты красивая.
Должно быть, я её удивил; не ждала она от меня таких слов: я почувствовал это по ее рукам, сильно до боли стиснувшими меня и тут же расслабившимися, вновь пославшими всю нежность своего прикосновения и свою возбуждающую теплоту моему напряженному тельцу. Нет-нет, угрозы от них не будет! И вообще, добрее души не было никогда в моей жизни, и нет больше на свете.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: