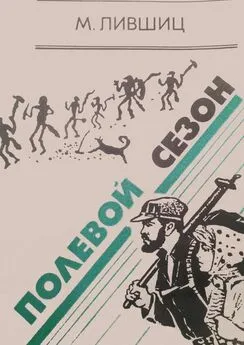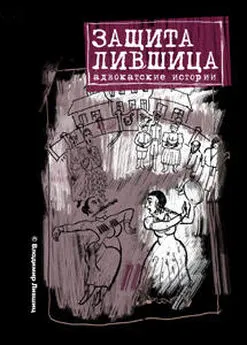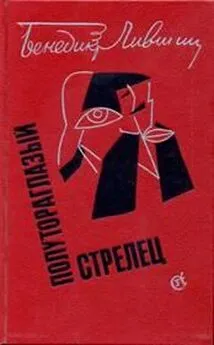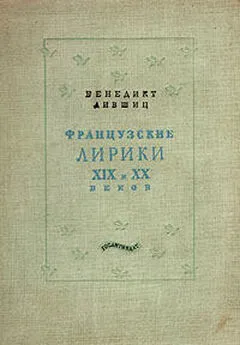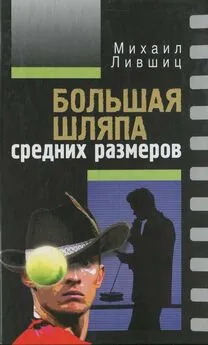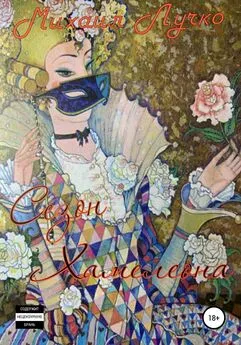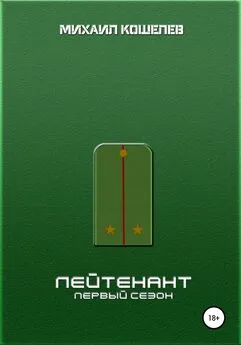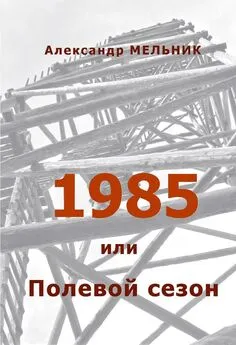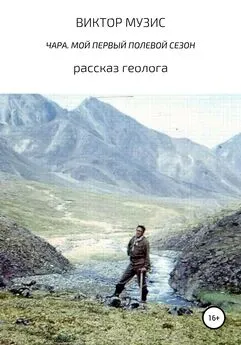Михаил Лившиц - Полевой сезон
- Название:Полевой сезон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448354595
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Лившиц - Полевой сезон краткое содержание
Полевой сезон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прошло некоторое время – Лилия Леонидовна вручила мне первые написанные мужем рассказы. Я начал читать их со скорбным чувством: сколько раз мне приходилось убеждаться, что графоманами становятся не только тщеславные бездари, жаждущие известности, лавровых венков и больших гонораров, нет – среди них немало людей и застенчивых, и бескорыстных, и трудолюбивых, и достаточно повидавших, и досыта настрадавшихся в жизни. Виноваты ли они в том, что природа обделила их одним-единственным: писательским талантом?.. С такой вот боязнью и начал я читать рассказы Михаила Лившица, уже значительное время не выходившего из дома, по квартире же передвигавшегося с помощью палочки…
И вдруг…
Талант – всегда чудо, тайна, непостижимость. Талант – это не одно лишь умение из множества слов отобрать наинеобходимейшие, наивыразительнейшие и возвести из них искусное строение. Это еще и своего рода сверхчуткость, сверхслух, способность уловить то, что находится как бы за порогом обычной чувствительности. В годы, когда рос, работал, жил Михаил Лившиц, происходило противоестественное привыкание нашего общества к жестокости, крови, смерти; жалость и сострадание считались достойными осуждения, а порой и сурового наказания; мир однажды и навсегда был разделен на «своих» и «чужих», при этом вчера еще «свои» сегодня попадали в «чужие», которых следовало ненавидеть и при первой возможности – уничтожить… Слово «милосердие» обозначалось в толковых словарях как архаизм. Но и теперь, восстанавливая многие из позабытых, изъятых понятий, мы куда дольше будем восстанавливать в наших сердцах простые, неизуродованные человеческие чувства.
…И вдруг я читаю – это был один из первых рассказов Лившица – о том, как в степи, на привале, геологи увидели гадюку: «…раздался громкий крик Нины: „Змея!“. Она резко вскочила и отбежала в сторону. Меня будто пружина подбросила – я мгновенно оказался на ногах и посмотрел туда, куда указывала Нина. В первую секунду я просто остолбенел: прямо к нашему столу прыжками двигалась крупная змея, далеко выбрасывая голову и грозно шипя. Никогда в своей полевой практике не видел, чтобы змея нападала…» Герой рассказа убивает гадюку, размозжив молотком ее голову, рассекает тело – и внезапно в порванной коже видит «шевелящихся, в палец величиной, змеенышей. Они как будто были завернуты в целлофан». И вот проходит много лет, проходит целая жизнь, но «до сих пор я спрашиваю себя: почему змея бросилась на нас, ведь мы ее ничем не побеспокоили… И все-таки не перестает мучить мысль: был ли у меня в эти несколько шоковых секунд другой выход – кроме убийства?..»
Я прочитал этот потрясший меня рассказ года три назад, но перед моими глазами все шевелятся в утробе убитой матери «будто завернутые в целлофан» змееныши, виновные разве лишь в том, что родились – должны были родиться – змеенышами, а не, скажем, орлами или божьими коровками… О чем он, этот рассказ? О том, что злоба ведет к собственной погибели? О мужестве и находчивости? Или о том, что и враги наши достойны жалости и сострадания, так говорит нам сердце, хотя разуму трудно бывает с этим согласиться и еще труднее жалость эту реально выразить?.. О чем он? Обо всем сразу.
…Каждый человек может рассказать хотя бы одну такую историю из своей жизни, которая была бы интересна всем. И будь в этой книге одна лишь история, все равно ее нужно было бы издать. Но читатель увидит, что помимо великолепного рассказа «Степная гадюка» здесь немало других, написанных сочным, выразительным языком, рассказов, богатых подробностями той жизни, которой жил автор, – умных, добрых и грустных.
Что же до меня, то в книге этой, изданной женою и детьми давнего моего приятеля, мне слышится в каждом слове его негромкий, ровный, лишенный богатых модуляций голос – таким голосом рассказывают о прожитом, о виденном и пережитом, не рассчитывая привлечь чье-то внимание, – рассказывают о себе для себя…
Ю. Герт
От автора
Оглядываясь на пройденный путь, я вспоминаю, какой представлял себе свою будущую профессию, поступая в 1950 году в Казахский горно-металлургический институт. Я рисовал ее романтическими красками: геология – значит жить душа в душу с природой, разгадывать ее тайны, искать в недрах земли полезные руды и добывать их на благо народа. Геология – это сплошной ковер цветов в весенней степи, холодные родниковые воды в горах, тихие и долгие равнинные закаты с «засыпающими» дневными ветрами, отдых после трудных маршрутов под тенью домиков и палаток, «исключительная» по вкусу каша с консервированным мясом, которую в городе не едят. А для вечернего времяпрепровождения – радио, гитара или аккордеон, скудный книжный багаж, привезенный с собой, и раз в месяц выезд на пару дней с ночевкой к пресному озеру – охотиться на диких уток и ловить рыбу.
Все это исполнится, но будет и другое, о чем я тогда не подозревал, – оборотная сторона этой романтической «медали»: бездорожье и старые, изношенные машины без запчастей, некалорийная, однообразная пища и солоноватая вода, вкус которой ощущается даже в чае; палящее солнце и грозовой ливень во время маршрута, когда негде укрыться; тяжелые рюкзаки, набитые образцами и пробами; не выдерживающие до конца сезона кирзовые сапоги, отскакивающие крепежные крючья у раскладушек, надоедающий спальный мешок, вата в котором уже через месяц скатывается комками… Да разве перечислить все, что омрачает полевую жизнь геологов?
Сейчас мне все чаще вспоминаются разные случаи из прошлого, как смешные, так и печальные; более трезво оцениваются собственные поступки и действия товарищей; занимают меня и мои отношения с «братьями нашими меньшими», которых приходилось встречать в экспедициях. Многие из этих историй были рассказаны мною родным и друзьям, побудившим меня взяться за перо, тем более что после тридцати лет геологической деятельности я «обезножел» и оказался прикованным к креслу и заточенным в четырех стенах.
Если читателя заинтересуют эти невыдуманные были о работе и быте геологов в поисково-съемочных партиях, о поведении людей и животных в экстремальных ситуациях, то цель моей книжки будет достигнута, а романтика дальних дорог, освобожденная от «розового флера» иллюзий, не утратит своей привлекательности и притягательности.
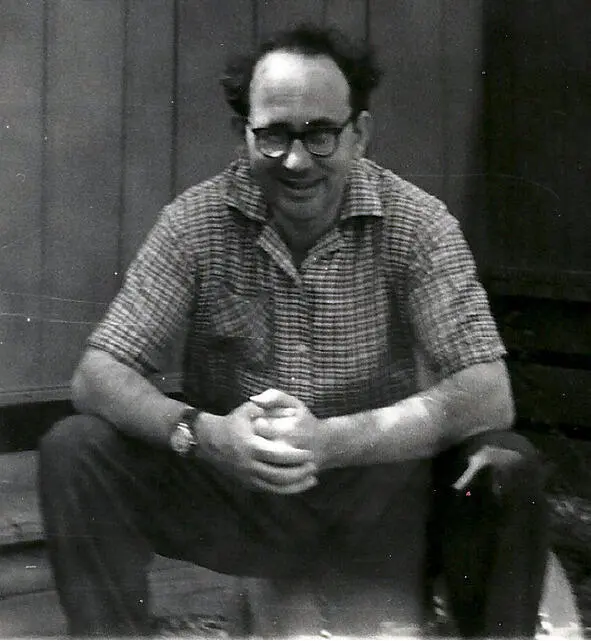
Пятерка за находчивость
Георгин Цараевич Медоев, небольшого роста полный мужчина, осетин по национальности, обладал хорошим чувством юмора и недюжинными познаниями в геологической науке. Прошло почти сорок лет с тех пор, как я, «зеленый» студент, слушал этого замечательного лектора, популярно и красноречиво рассказывающего нам об основных задачах геологии и объяснявшего «мудреные» для нас в ту пору термины науки о Земле. Строгие и пронзительные черные глаза профессора, читавшего курс общей геологии, внимательно оглядывали собравшуюся разношерстную аудиторию: приходили послушать его и студенты старших курсов, и ассистенты, и выпускники университета, где геологические дисциплины преподавались не столь глубоко и доходчиво. Непринужденно и неторопливо лилась речь лектора, прерываемая лишь постукиванием мела по доске, на которой возникали причудливые «катакомбы» из горстов и грабенов 1 1 Смешения земной коры – провалы и поднятия.
, смещались и передвигались по гигантским разломам куски континентов, происходили всякие стихийные бедствия в истории Земли. Иногда Медоев говорил, медленно прохаживаясь по проходу между столами и заглядывая в тетради слушателей. В аудитории стояла мертвая тишина, и малейший шепоток был слышен по всему залу. Если какие-то комментарии или не относящиеся к лекции фразы достигали слуха Георгия Цараевича, он подходил к виновнику и произносил одну постоянную, но безотказно действующую реплику: «Сиди крепче, молчи шибче!» Не знаю, почему, но эта «формула» казалась самым страшным выговором.
Интервал:
Закладка: