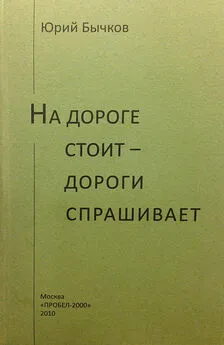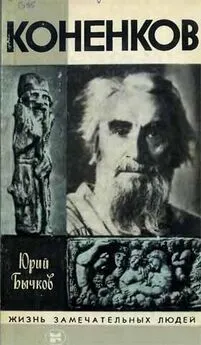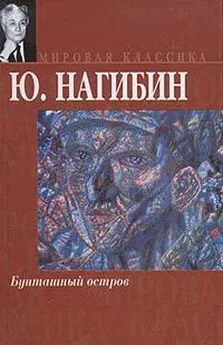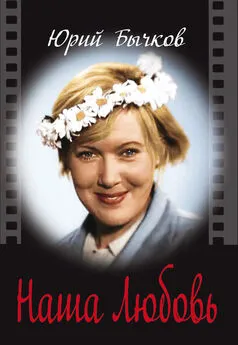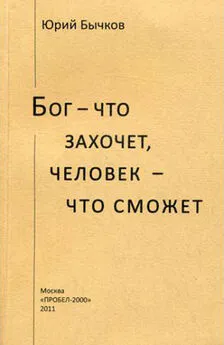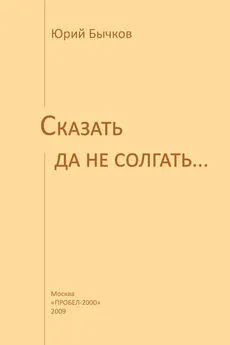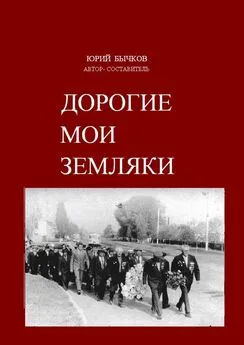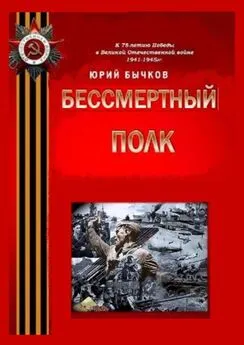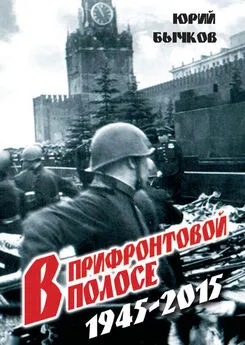Юрий Бычков - На дороге стоит – дороги спрашивает
- Название:На дороге стоит – дороги спрашивает
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Пробел-2000
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98604-222-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Бычков - На дороге стоит – дороги спрашивает краткое содержание
На дороге стоит – дороги спрашивает - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вдруг, осмелев, пошёл дробить устоявшийся, густой, с туманцем, воздух трелями, красивыми, затейливыми пассажами. На жалобной, ласково-печальной ноте голос соловья смолк. До будущей весны, наверное.
Короткий антракт. Слышно только приглушённое туманом журчание-говор воды на устроенной нами плотине. Чу! На том берегу будто тележный скрип с подергиванием.
– Коростель продирается сквозь густой травостой; можно подумать, кого потерял в темноте, ищет – не найдёт никак.
– А это? Слышишь, звуки, душераздирающе-отрывистые. Кто это там пищит?
– Сова… Добычу свою, мышей, так пугает, летит, пищит, мышка замерла на месте от страха. А сова в темноте всё и всех видит, да ещё как видит. А летает она совершенно неслышно. У неё мягкое, рыхлое оперение – никакого свиста крыл. Перемещается в ночи бесшумно. Голова у неё большая, круглая, глазницы в перьях. Сущий дьявол.
– Сколько ты знаешь, Генка! Откуда?
– Мне сосед-охотник дядя Вася Марасанов про сову рассказывал.
Звёзды, усеявшие от края до края небосвод, завораживали, вынуждали думать, говорить о беспредельности Вселенной.
Генка, восстав над костром в позе недоумевающего, вопрошающего, жаждущего истины, бросает слова с такой значительной интонацией, словно предвидит эффект вспышки, почти мгновенного возгорания, падающих на пламенеющие угли сухих берёзовых лучин.
– Как так можно? По радио Лемешев поёт:
«Всю-то я вселенную проехал…»
На лошадях, в телеге проехал, что ли? – смеётся Генка.
– А почему не в телеге? Если он раньше ямщиком был, помнишь, он пел: «Когда я на почте служил ямщиком», – обязательно и по Вселенной на лошадях будет скакать!
– В аэросанях способней… Пропеллер тянет вперёд и обдувает заодно. В кино показывали, как по глубокому снегу на Севере ездят на аэросанях.
– Думаю, во Вселенной на дорогах полно звёздной пыли. Так же, как после метели. Звёздные заструги, понимаешь?
– Ты что? Там дорог и в помине нет! Простор – катись в любую сторону.
– Вот бы прокатиться! Летишь с ветерком по звёздным застругам, а тебя потрясывает. Хорошо!
– Надо же, в фантастику ударились. К звёздам даже самолёт Чкалова не пробьётся. Только на ракете можно домчаться. Да и то за сто лет – так далеко.
Настроение поднялось. Мною овладел восторг, его надо было как-то выразить. Я принялся декламировать, точнее выкрикнул всем известную строчку Пушкина:
– Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы.
– Как дальше?
– Где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель…
Знаешь, мне Онегин не по душе… Мне ближе Татьяна.
Генка с мечтательным выражением, глядя в глубь Вселенной, заговорил стихами.
Итак, она звалась Татьяной…
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
Как мы она любила на балконе
Предупреждать луны восход,
Когда на бледном небосклоне
Звёзд исчезает хоровод…
Смотри! Звёзд на небе не стало – прямо по Пушкину.
И тихо край земли светлеет,
И, утра вестник, ветер веет,
И всходит постепенно день.
– Ну, ты даёшь, Генка!
– У нас в доме на этажерке старинное, здорово потрёпанное, издание «Евгения Онегина» – хочу выучить наизусть как можно больше. Отец вычитал где-то, что «Евгения Онегина» знают наизусть от строчки первой до последней десять тысяч человек.
– Дашь почитать «Онегина»? На дом дашь?
– Дам… С возвратом, – великодушно пообещал Генка.
Оба смолкли – на целую минуту задумались.
– На ракете к звёздам … Когда это ещё будет?
– Скоро. Очень скоро. Циолковский придумал звёздный корабль: построят и полетят.
– Мне мама после церкви объясняла: «Небо – терем Божий, а звёзды окна, оттуда ангелы смотрят».
– Сказки это.
– Поживём, увидим, что сказки, а что быль.
– А Лемешев, слышь, Юрка, уже всю Вселенную проехал.
– Картошку пора из золы доставать!
Обжигая пальцы, снимаем почерневшую, обуглившуюся кожуру с рассыпающихся сахаром, до страсти вкусных картофелин.
– Гена, где у нас соль, и ломоть хлеба будет не лишним.
– Тот не знает наслажденья, денья-денья, кто картошки не едал, – то ли поёт, то ли проговаривает врастяжку торжествующий Генка.
Что остаётся делать мне? Поддерживаю его, поддакиваю с полным ртом вкуснейшей печённой в костре картошки:
– Наслажденье, денье, денье, пионеров идеал. Особенно, если не забыть посыпать на разломленную пополам картофелину маленькую щепотку соли.
– Хо-а-ша ка-о-ше-а!
Не прожевав, с полным ртом и оттого сглатывая согласные, косноязычит Генка и поднимает ввысь большой палец правой руки.
Июньская ночь чуть длиннее воробьиного носа. На востоке, там, где наша Почтовая, а за ней – Московская улица и Садки, уже занимается заря. Оба любуемся чудом зарождения света. Из-за горизонта проглядывает розовая пелена.
– Робкая… Будто угли под пеплом, – произнёс пресекающимся голосом Генка, и эти его слова я запомнил навсегда. Не напрасно огорчался я впоследствии на то, что Николай Иванович Бизянихин не причислил Генку Лучкина к стану поэтов десятого класса Лопасненской средней школы.
– Пойдём смотреть верши, – вспомнил я о ждущем нас внизу, в реке, улове.
– Рано! Да и прозябнем слишком. Смотри, какой плотный туман стоит над водой.
– Тогда соснём часок-другой.
– Давай.
Как сражённые неслышимой пулемётной очередью, повалились мы на нагретые костром ватники. Уснули враз. Солнце, выкатившись из-за горизонта на треть своего гигантского круга, вдарило по глазам.
– Кажется, мы проспали улов, – потухшим голосом произнёс мой друг.
Подняли из проранов снасти: в одной верше трепыхались два малорослых окунька, в другой – серебрилась несколько плотвиц и карабкались по ивовым прутьям пучеглазые раки. Плотина наша в нескольких местах развалилась, вода шла сплошным потоком по всей длине каменной преграды.
– Улов не столь и важен. Зато какая ночь позади, – примирительно рассуждал Генка. С этим трудно было спорить. Знатная ночь случилась для двоих романтически настроенных мальчишек в канун страшной – истребительной, но победоносной – войны. Катился ко второй, роковой, половине июнь сорок первого года.
На другой день последовала компенсация-вознаграждение за скудный улов на каменной, осыпавшейся под напором быстрых упругих речных струй запруде у Старого Бадеева. Возмещение, можно предполагать, случилось по указанию высших, способных на такое сил. Напротив кузни Конновых, под сенью громадных осокорей, мы пытались в густой тине, разросшейся у берега, загонять в ивовые бельевые корзины рыбёшку, а она, глупая, всё никак не шла в эту приспособленную для рыбной ловли снасть. И вдруг не помню, кто первый из нас, истошно заорал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: