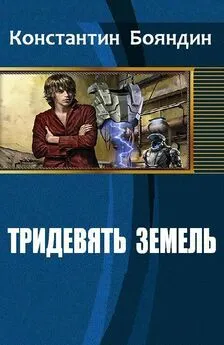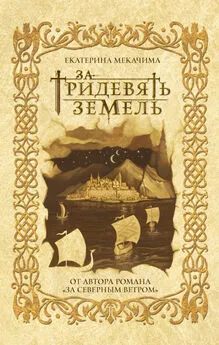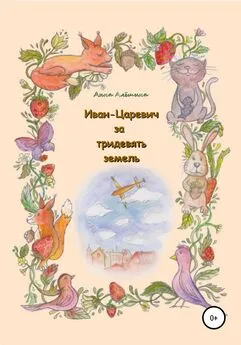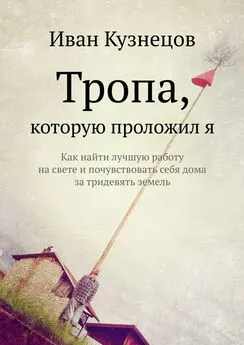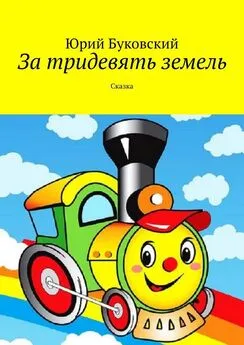Антон Уткин - Тридевять земель
- Название:Тридевять земель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Уткин - Тридевять земель краткое содержание
Тридевять земель - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Да отчего же вы так убеждены, что все члены парламента живут только "правом" и "эгоизмом"? – и искренним изумлением спросил Сергей Леонидович. – Ведь и у них есть этика, ведь и они христиане, и у них есть религия.
– Да, конечно. Но, как и для большинства, эти стеснительные правила нисколько для них не обязательны. Ах, да что говорить? Senatores boni viri, senates mala bestia (Сенаторы – добрые мужи, сенат – злое животное). Где ещё взять нам этику, когда религиозность русского народа оказалась крайне беспочвенной, слабой? Она не выдерживает и напора той глупой интеллигенции, которая на неё давит. Это грустно и неожиданно, однако, вдумавшись, нетрудно увидеть причину: это чисто внешняя религиозность народа, наподобие итальянской, которая держится на обрядности, не связанной органически с этикой. Чем ещё можно объяснить распространение у нас раскольнических течений? Именно тем, что они дают ответ на этические запросы человеческой души, чего наша церковь не делает. Вот же сам ты только что печаловался о том, как празднуют у вас Спас.
– Эх, да везде же так, – возразил Сергей Леонидович. – Что уж тут убиваться.
Но Ремизов, донельзя возбужденный неслыханным политическим событием, как будто не замечал своего гостя и продолжал говорить словно бы сам с собой.
– Конечно, крестьянство ещё крепко, но под него начнут подводить мины революционеры путём возбуждения аграрного вопроса. Дума поставит этот вопрос одним из первых, а сумеет ли правительство отвести этот удар?
Сергей Леонидович смотрел на его круглые коленки и размышлял о том поверье, что такая форма коленок присуща людям с добрым сердцем, потом перевел взгляд на свои и даже украдкой ощупал их, но относительно себя так ничего и не решил.
– В последний раз я так и заявил нашим записным парламентаристам: мы далеки видеть в губернских земских собраниях нечто вроде представительства страны и считать их решения лучшим выражением народных взглядов, однако невозможно отрицать, что за отсутствием других органов, более авторитетных, земские собрания имеют право на некоторое внимание… Серёжа, – остановил вдруг себя старик, видимо, спохватившись и щадя чувства Сергея Леонидовича, – я искренне сочувствую твоему брату. Один Бог знает, что у него на душе.
Накануне прямо на станции Козлова гимназистка старшего класса стреляла из револьвера в жандармского подполковника Кирсанова. Встревоженная Александра Николаевна в отсутствие Сергея Леонидовича проникла в его комнату и на правах обеспокоенной матери занялась изучением его бумаг. К её огромному облегчению ни прокламаций, ни листовок, ни какой-нибудь запрещённой или способной вызвать подозрение брошюры ей не попалось, и она зарылась в груду листов, которые представляли первые попытки её сына проникнуть к истокам права.
«Когда Савиньи говорит о начале достоверной истории народов, – начала читать она, – тем самым он подаёт повод ко всем тем упрекам, которые вовсе не заслуживает историческая школа. «В самую раннюю эпоху своего бытия, – писал профессор Буслаев, – народ уже имеет все главнейшие нравственные основы своей национальности в языке и мифологии, которые состоят в теснейшей связи с поэзией, правом, обычаями и нравами». Все эти проявления народной жизни неразрывно связаны между собою и только представляются нам обособленными, и поэтому надо признать, что здесь мы устремляемся в настолько неизведанные области, что, как предостерегал ещё Спенсер, слова «брак» и «право», в приложении к подробному общественному состоянию, могут привести к ошибочным выводам. "Таким образом, – заключает Иеринг, – на долю Савиньи остаётся только доисторическое время, относительно которого у нас нет никаких сведений". (Здесь уместно припомнить слова Моргана, что из небольшого числа зародышей мысли, возникших в ранние века, развились все основные учреждения человечества.)
Но Савиньи говорит, что юридическое правило возникает из общего правосознания или из непосредственного убеждения в его истине и в присущей ему помимо внешней санкции обязательной силе, и можно поэтому с уверенностью сказать, что каждый закон имеет в себе элементы прошлого. Эти-то элементы и приводят нас в отдалённое прошлое, о котором зачастую не сохранилось никаких письменных свидетельств, и дают нам понятие о мирочувствовании наших далёких предков и тех правил, которых они держались.
Наиболее древние из книг, содержащие в себе священные законы, бросают мало света на самое его происхождение. Какая-нибудь система обрядовых действий, какие-нибудь обычаи и обыкновения должны были иметь место и до времени его появления, замечает Мэн. Представляя нам русские племена, летописец наш говорит: "си же творяху обычаи кривичи и прочии погании, не ведуще закона Божия, но творяще само собе закон", он только хочет сказать, что "имяху бо и обычаи свои, и закон отец своих и преданья (то есть уставы), кождо свой нрав".
Все без исключения дошедшия до нас системы писанного законодательства понуждают говорить с непреложностью о существовании религиозно-правовой системы взглядов древнего общества. Несомненно также, что все они опирались на обычай. "Истинное значение права можно правильно понять лишь в том случае, – пишет Йеллинек, – если иметь в виду, что общество – первее цивилизованного индивидуума. Изучение истории показывает, что самостоятельная ценность индивидуальности есть величина, обусловленная общим культурным положением народа, о которой так же нельзя высказать нечто абсолютное, как о каком-либо факте исторического характера. В развитом общественном строе отдельному члену, конечно, предоставлено больше самостоятельности, чем в строе менее культурном, где отдельные органы ещё недостаточно дифференцированы. Степень самостоятельного значения, которую признает за индивидом общество, является продуктом долгой и тяжёлой исторической работы и лучшим плодом каждой культуры, и не может быть выводима из чистого разума".
С этой мыслью связывается другая, а именно, что на первых порах религия, нравственность и право слиты воедино, как единственно возможная форма миропонимания. Древнее право не было созданием какого-либо законодателя, говорит Фюстель де Куланж, напротив, оно в готовом виде было дано законодателю. Оно вытекло из народных верований, безгранично властвовавших над их умом и волей. Это заставляет нас вернуться к учению Савиньи о том периоде народной жизни, в который, по его выражению, право живёт в сознании народа подобно языку, то есть когда правила частного права принадлежат к предметам народного верования».
Александра Николаевна прочитала всё это, ещё раз облегченно вздохнула и обратила свой взор к окну, выходившему в сад с клумбами огненных настурций и георгинов. И неожиданно вспомнила ту Троицкую припевку, которую не могла припомнить намедни: "Благослови, Троица, Богородица! Нам в лес пойти, венок сплести. Ай, дид, ой, ладо! Пойду ль я тишком, лужком и бережком, сломлю с сыра дуба веточку, брошу на быструю речиньку. Ай, дид, ой, ладо…"
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
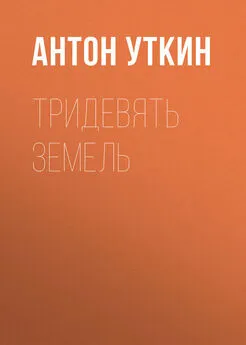
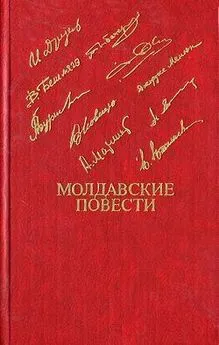

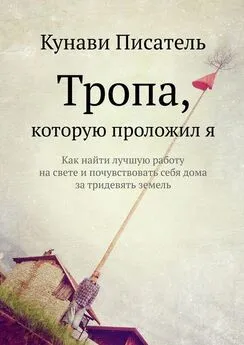
![Екатерина Мекачима - За тридевять земель [litres]](/books/1056641/ekaterina-mekachima-za-tridevyat-zemel-litres.webp)