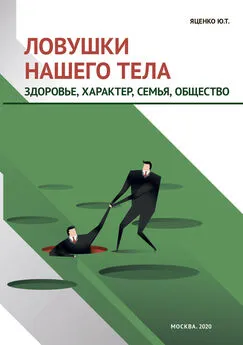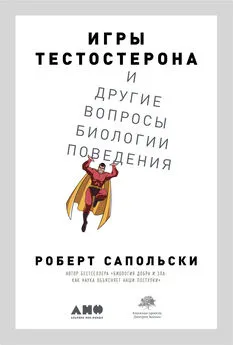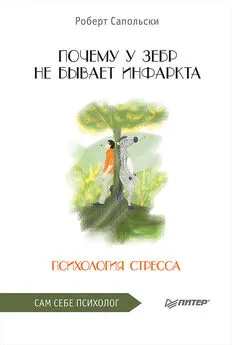Роберт Сапольски - Кто мы такие? Гены, наше тело, общество
- Название:Кто мы такие? Гены, наше тело, общество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9167-1112-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберт Сапольски - Кто мы такие? Гены, наше тело, общество краткое содержание
Вот лишь некоторые из множества волнующих всех вопросов, затронутых в книге. Как сказываются на нашем поведении едва заметные изменения окружающей среды? Какова анатомия плохого настроения? Как влияет стресс на наш мозг? Что можно узнать о природе и воспитании человека, исходя из списка «50 самых красивых людей Америки» в журнале People? Отчего один человек сексуально притягателен для другого? Кто победит в генетической войне полов?
Книга вышла при поддержке программы «Книжные проекты Дмитрия Зимина».
Кто мы такие? Гены, наше тело, общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другими словами, эти современные научные открытия – гены, подающие сигналы и определяющие наше поведение, – попросту несовместимы с влиянием среды. Кому-то приходится уйти.
Я не в курсе, как преподают генетику на филологическом факультете господина Менана, но большинство биологов, занимающихся изучением поведения, стараются отучить людей от этой оболванивающей фразы про «придется уйти» уже не один десяток лет. Похоже, с переменным успехом. Попробуем еще раз.
Так вот. У вас есть природа – нейроны, мозг, химические вещества, гормоны и, конечно, на самом дне коробки – гены. И есть воспитание – всяческие веяния окружающей среды. И больше всего в этой сфере навязло в зубах напоминание о том, что бессмысленно говорить о природе или воспитании, а можно – только об их взаимодействии. Но почему-то этот трюизм в головах не удерживается. Вместо этого опять идет речь о том, что кому-то пора уходить, и, когда выставляют напоказ новый ген, который, «подавая сигнал», «определяет» поведение, влияние окружающей среды неизбежно видится как не относящееся к делу, которое не надо принимать во внимание. Так бедная маленькая Долли стала угрозой нашей личной независимости, и кажется, будто существуют гены, определяющие, с кем вы ляжете в постель и будете ли об этом тревожиться.
Попробуем опровергнуть трактовку генов как нейробиологической и поведенческой судьбы и рассмотрим эти два допущения. Начнем со второго – понятия, что гены означают неизбежность, они дают команды, запускающие работу клеток, в том числе и в голове. Что конкретно делают гены? Ген, участок ДНК, не производит поведения. Или эмоцию, или даже мимолетную мысль. Он нужен для производства белка, поскольку в последовательности ДНК, составляющей этот ген, закодирована определенная молекула белка. Некоторые из этих белков, безусловно, имеют отношение к поведению и чувствам и мыслям. В числе белков – гормоны и нейротрансмиттеры (химические передатчики информации между нейронами), рецепторы, которые получают гормональные и нейротрансмиттерные сообщения, ферменты, которые синтезируют и расщепляют эти нейротрансмиттеры, множество внутриклеточных сигнальных молекул, активность которых регулируется гормонами, и так далее. И все они необходимы для работы мозга. Но суть в том, что гормоны и нейротрансмиттеры крайне редко вызывают какое-то поведение. Обычно они вызывают склонность реагировать на окружающую среду определенным образом.
Это принципиально важно. Возьмем тревогу. Когда живой организм сталкивается с угрозой, он обычно настораживается, старается собрать информацию о природе угрозы и найти эффективный способ с ней справиться. А когда приходит сигнал безопасности – от льва убежали, полицейский купился на объяснения и не выписал штраф за превышение скорости, – организм может расслабиться. Но с тревожным человеком этого не происходит. Вместо этого он лихорадочно дергается между разными ответными реакциями, бросаясь то к одной, то к другой, не проверяя, сработало ли что-нибудь, в беспокойных попытках сделать все и сразу и выдать сразу несколько разных реакций. Или он не способен определить сигнал безопасности и продолжает пребывать в неуемной настороженности. Тревога, по определению, не имеет смысла вне контекста среды, действующей на личность. В этой схеме химические вещества, или в конечном итоге гены, связанные с тревожностью, не вызывают тревогу. Они заставляют вас более чутко реагировать на ситуации, вызывающие тревогу, и вам труднее различать сигналы безопасности в окружающей среде.
Та же история наблюдается при анализе других типов поведения. Очень интересный белковый рецептор, который, кажется, как-то связан с поиском новизны в окружающей среде, не заставляет вас выискивать новое. Вы просто будете более возбудимы в новом окружении, чем люди с другой версией этого же рецептора. А (генетически обусловленные) нейрохимические аномалии, связанные с депрессией, не вгоняют вас в это состояние. Их наличие делает вас более уязвимым для стрессирующих факторов окружающей среды, более готовым к признанию своей беспомощности в ситуациях, где это на самом деле не так. Снова и снова одно и то же.
Можно возразить, что по большому счету мы все сталкиваемся с обстоятельствами, вызывающими тревогу, с подавляющим миром вокруг. Если на всех нас действуют одни и те же факторы среды, но депрессией заболевают только те, кто к этому генетически предрасположен, – это мощный аргумент в пользу генов. В таком раскладе песня про то, что «гены не вызывают конкретных реакций, они делают вас более чувствительными к среде», теряет смысл.
Но здесь есть два момента. Во-первых, не каждый, у кого имеется генетически унаследованная склонность к депрессии, ею заболевает (лишь около 50 % – та же история, что с обладателями генетических предпосылок шизофрении), и не у каждого больного тяжелой формой депрессии имеются генетические предпосылки к этому заболеванию. По одному только генетическому статусу ничего предсказать нельзя.
Во-вторых, окружающая среда кажется одинаковой для всех людей только на первый взгляд. К примеру, варианты генов, связанные с депрессией, распространены примерно одинаково по всему миру. Тем не менее депрессия позднего возраста в нашем обществе встречается очень часто, а в традиционных обществах развивающихся стран почти не встречается. Почему? Среда в разных обществах кардинально отличается: человек в пожилом возрасте становится влиятельным старейшиной деревни – или выходит в тираж и обживает лавочку у подъезда. Или средовые различия могут быть едва уловимыми. Признано, что периоды стресса и потери контроля в детстве предрасполагают к депрессии во взрослой жизни. Двое детей могут столкнуться с похожим опытом «случаются беды, и я над ними не властен» – у обоих могут развестись родители, умереть бабушка, дедушка или любимое домашнее животное, их могут безнаказанно травить. Но распределение этого опыта во времени вряд ли будет одинаковым: ребенок, на которого все это свалится за один год, с большей вероятностью столкнется с когнитивным искажением «есть беды, с которыми я не могу справиться, – да я ни с чем, на самом деле, справиться не могу», ведущим к депрессии. Биологические факторы, закодированные в генах, связанных с работой нервной системы, обычно не определяют поведение. Они влияют на то, как вы реагируете на среду, а влияние среды часто очень сложно идентифицировать. Генетическая уязвимость, предрасположенность, склонности… но редко генетическая неизбежность.
Также важно понимать неточность первого допущения поведенческой генетики: понятие о генах как независимых источниках команд, как будто они обладают собственным разумом. Чтобы увидеть ошибочность этого представления, пора обратить внимание на два потрясающих факта, касающихся структуры генов, поскольку они разносят это допущение в пух и прах и возвращают на сцену энвайронментализм во всем его блеске.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
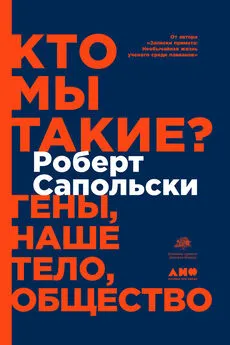
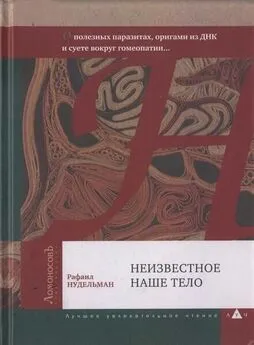
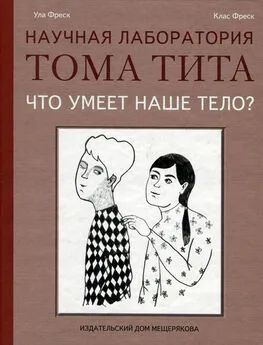
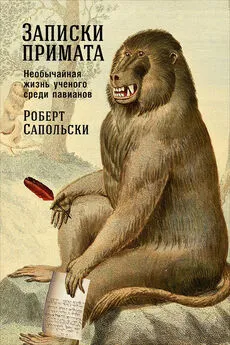
![Роберт Сапольски - Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения [litres]](/books/1074102/robert-sapolski-igry-testosterona-i-drugie-vopros.webp)