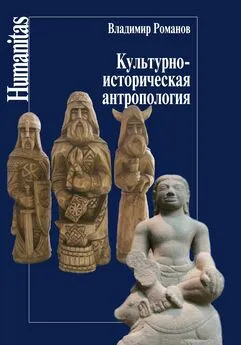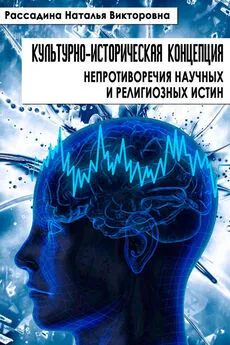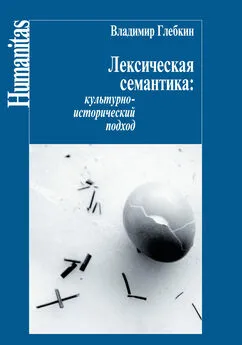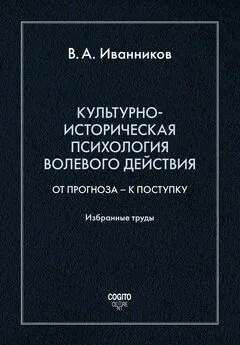Владимир Романов - Культурно-историческая антропология
- Название:Культурно-историческая антропология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-130-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Романов - Культурно-историческая антропология краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Культурно-историческая антропология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
11
См.: Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М., 1990. С. 35.
12
О теле как исходной «системе координатных осей, которую мы носим всегда с собой» и в которой развертывается у нас процесс локализации внешних предметов, писал в свое время А. Пуанкаре (см.: Пуанкаре А. О науке. М., 1990. С. 245). Примечательно, что математик (правда, математик, по общему признанию математиков, выдающийся), задавшись вопросом о генезисе геометрического представления пространства и проясняя в связи с этим психологическую сторону процесса локализации, категорически настаивал на безусловном наличии в нем не только визуальной составляющей, но еще и двигательно-моторной и причем в качестве ведущей: «Локализовать предмет значит просто представить себе те движения, которые нужно было бы сделать, чтобы достигнуть его; объяснюсь подробнее: дело не в том, чтобы представлять себе самые движения в пространстве, но только те мускульные ощущения, которыми сопровождаются эти движения и которые не предполагают предсуществования пространства» (там же, с. 246). Остается только добавить, что, говоря в данном случае о подлежащих представлению мускульных ощущениях, А. Пуанкаре, в сущности, имел в виду то, что Р. Варен впоследствии назвал эголокомоцией ( Warren R. The perception of ego motion // Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance. 1976, № 2).
13
Именно так Дж. Голд называет личностное пространство, границы которого постоянно перемещаются вместе с животным ( Голд Дж . Психология и география. Основы поведенческой географии. М., 1990).
14
Кстати сказать, нарушение у пьяного спонтанной координации движений нередко сопровождается (по крайней мере до тех пор, пока человеческая особь еще в состоянии ворочать своим языком) попытками взять ситуацию под контроль именно за счет слова – за счет отдаваемых себе команд, словесного (часто нецензурного) комментирования их исполнения и т. п. Показательно, однако, что этот вроде бы чисто человеческий компенсаторный ход оказывается на практике не больно продуктивным, нередко оборачиваясь весьма неприятной для особи, безуспешно пытающейся подтвердить свой двуногий статус, «асфальтовой болезнью».
15
Подчеркну, ускользающий от внимания даже тех психологов, которые, следуя давней и чрезвычайно продуктивной, на мой взгляд, традиции, во многом обязанной своим становлением Ж. Пиаже, вроде бы и учитывают чрезвычайно важную роль предметной среды как таковой в формировании психического аппарата любого живого существа, но вместе с тем, не видя принципиальных отличий в самой предметной среде, окружающей животного и человека, связывают очевидные различия в их психическом аппарате исключительно с тем, что уже первые проявления двигательной активности человеческого детеныша сопровождаются словесным их комментированием со стороны окружающих его взрослых особей (см., например, замечательную во многих других отношениях статью: Жуков Ю.М ., Зинченко В.П . Социоисторические исследования труда и общения. (К истории становления предметных действий) // Человек в системе наук. М., 1989. С. 379–380).
16
О понятии органопроекции, введенном в оборот в XIX в. немецким философом техники Э. Капом ( Kapp E . Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten. Braunschweig, 1877), см: Флоренский П . Органопроекция // Декоративное искусство СССР. 1969. № 12.
17
Можно только заранее ожидать, что для ряда предметов их зафиксированное проприоцептивными механизмами обобщенное значение, как и в случае со стулом, будет соотноситься преимущественно со статикой человеческого тела, в то время как другие будут выступать скорее знаком его динамических возможностей. Последнее, видимо, коснется в первую очередь детских игрушек и простейших орудий домашнего обихода (ложек, вилок и т. п.), предполагающих, что в движении благодаря захвату они могут непосредственно включаться в схему тела человека, фиксируя и одновременно обозначая моторно-топологический инвариант функционально предусмотренной ими предметной операции. О схеме тела человека, по отношению к которой локализуются сигналы кожной чувствительности и границы которой могут простираться дальше физических границ самого тела за счет включения в нее задействуемых нами орудий труда, см. подр.: Величковский Б.М ., Зинченко В.П ., Лурия А.Р . Психология восприятия. М., 1973. С. 212–213; см. также: Бернштейн Н.А . О построении движений. М., 1947. С. 121–122.
18
Ср.: Кронгауз М.А . Семантика. М., 2001. С. 99—100.
19
Заострю свою мысль до предела. Если бы наш условный субъект компонентного анализа уродился бы, положим, существом разумным, но при этом (не приведи, конечно, Господи) членистоногим, то ни назначение данных артефактов (дать отдых определенным группам мышц, освободив их от нагрузки), ни соответственно значения языковых знаков, отсылающих к этим дающим нам отдых артефактам, так и остались бы – в силу самой членистоногости его телесного естества – совершенно недоступными для него несмотря на все старания его взрослого позвоночного окружения на словах объяснить ему в детстве, что такое стул. Ведь его жесткий наружный панцирный скелет, решая задачу устойчивости, не нуждался бы (в отличие от внутреннего скелета позвоночного существа) ни в какой помощи со стороны мышц и соответственно ни в каких артефактах, которые периодически снимали бы с этих мышц нагрузку. Отдохновение приходило бы к такому членистоногому субъекту компонентного анализа уже в тот ровно момент, когда он просто застывал бы в статической позе, какой бы нелепой и неудобной с точки зрения позвоночного существа она ни была. И это, в свою очередь, обернулось бы для него полной неспособностью провести компонентный анализ слова стул , поскольку сравнивать его со словами табуретка и кресло представляется совершенно естественным только тому, в чьей биодинамической чувственной ткани соответствующие этим словам артефакты были бы уже загодя представлены конкретными проприоцептивными инвариантами, действительно обладающими для нас, существ позвоночных, хотя и частичным, но все-таки несомненным сходством. Краткая справка для несведущих, как и автор, в физиологии: в отличие от позвоночного животного, чьи поперечнополосатые мышцы, вынужденные разом исполнять и двигательную функцию и опорную, работают у него постоянно, даже когда оно находится в статичном положении, у членистоногих те же мышцы, избавившись благодаря внешнему панцирному скелету от опорной функции, работают только как двигатели, которые включаются лишь во время движения животного (см. подр.: Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М., 1991. С. 77–80).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: