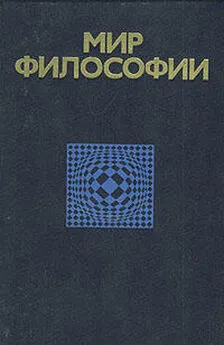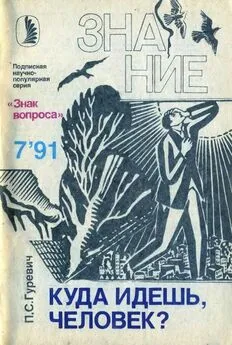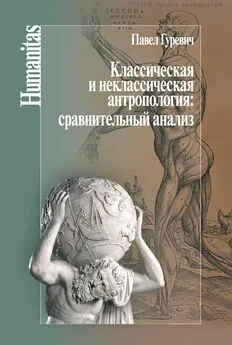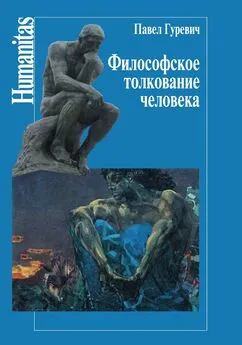Павел Гуревич - Философская интерпретация человека
- Название:Философская интерпретация человека
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-132-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Гуревич - Философская интерпретация человека краткое содержание
Фундаментальный стержень книги – философская антропология, существующая сегодня во множестве вариантов: культурная, социальная, религиозная, политическая, историческая, педагогическая, психоаналитическая. Философская интерпретация человека, отмечает автор, приобретает особую актуальность в современных условиях, когда человек утрачивает едва ли не все опоры.
Книга адресована философам, социологам и всем, кто интересуется проблемами философской антропологии.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Философская интерпретация человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти «раздражения» не были непосредственными возбудителями, но имели характер «призыва». Они призывали первобытных людей «что-то делать». Возбуждалось чувство «неопределенной обязанности», и первобытный человек реагировал, «подражая» раздражителю, например мощному зверю или трупу. Он устраивал ритуальные танцы, например танец медведя, в котором изображал зверя, предвосхищал его умерщвление или изображал труп в ужасных масках. Это подражание было подражанием друг перед другом, привлечением внимания и передачей роли другому, тем самым в ритуале рождалось сообщество и осознание общности.
Интерес к феномену фантазии приобретает актуальность только в середине прошлого века, когда феноменологи начинают исследовать воображение. Ж.-П. Сартр в своих работах «Воображение» (1936), «Воображаемое. Феноменологическая психология воображения» (1940) различает несовпадающие и несводимые друг к другу принципы работы сознания: реализующий и ирреализующий, что собственно и является воображением. Ирреализующее объективный мир воображение имеет своей целью восстановить недосягаемую в конкретном существовании целостность, тотальность, чему и служит искусство.
Известный феноменолог Э. Финк отмечает, что существует особая душевная способность – способность фантазии. Невозможно оспаривать существование этой способности. Всякий знает ее и бесчисленные формы ее выражения. Несомненно, по его мнению, сила воображения относится к основным способностям человеческой души. Она проявляется в ночном сновидении, в полуосознанной дневной грезе, в представляемых влечениях нашей инстинктивной жизни, в изобретательности беседы, в многочисленных ожиданиях, которые сопровождают и обгоняют, прокладывая ему путь, процесс нашего восприятия [46] См.: Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии / Сост. П.С. Гуревич. М., 1988. С. 359.
.
Фантазия действует почти повсеместно: она гнездится в нашем самосознании, определяя тот образ, который складывается у нас о себе, или же тот, в котором нам хотелось видеться ближним, она ловко сопротивляется беспощадному самопознанию, приукрашивает или искажает для нас образ другого, определяет отношение человека к смерти, наполняет нас страхом или надеждой, она – в качестве творческого озарения – направляет и окрыляет труд, она открывает возможность политического действия и просветляет друг для друга любящих.
Финк показывает, что фантазия тысячью способами пронизывает человеческую жизнь, таится во всяком проекте будущего, во всяком идеале и всяком идоле, выводит человеческие потребности из их естественного состояния к роскоши; она присутствует при всяком открытии, разжигает войну и кружит у пояса Афродиты. Фантазия открывает нам возможность освободиться от фактичности, от непреклонного долженствования так-бытия, освободиться хотя бы не в действительности, а «понарошку», забыть на время невзгоды и бежать в более счастливый мир грез [47] См.: Проблема человека в западной философии. С. 360.
.
Однако фантазия может превратиться в опиум для души. Она будет звать человека в мир грез, в галлюцинаторный космос. Конечно, фантазия открывает великолепный доступ к возможному как таковому, к общению с быть-могущим, она обладает силой раскрытия, необычайной по значению. Фантазия – одновременно опасное и благодатное достояние человека, без нее наше бытие оказалось бы безотрадным и лишенным творчества. Проницая все сферы человеческой жизни, фантазия все же обладает особым местом, которое можно было бы счесть ее домом: это игра.
Хёнгстенберг Ханс-Эдуард – немецкий философ, представитель теологической версии философской антропологии. Свою концепцию он определял как «синтетическую антропологию». В ней заметно влияние идей феноменологии, неотомизма. Вопрос о ревизии человеческой природы возникает в истории философии не впервые. Обратимся к критическому анализу концепции видного немецкого исследования Ханса Хёнгстенберга. Он отвергает всякую относительность в рассуждениях о человеческой природе. Он говорит о релятивистско-прогрессистском представлении из важного положения современной антропологии, гласящего, что человек является существом, к природе которого относится культура в целом, т. е. таким существом, которому свойственно развивать и осуществлять в культурном творчестве уже заложенную в нем сущность. Однако эта правильная мысль под влиянием упомянутого выше ошибочного представления об историчности неоправданно радикализируется до того, что между естественными задатками человека, с одной стороны, и обусловленными культурой изменениями человеческой сущности – с другой, не усматривается разницы. В таком случае из того факта, что культурные достижения человека – по крайней мере в определенных областях – неограниченно возрастают и в своем движении вперед не удерживаются в каких-либо границах, можно безусловно сделать вывод о неопределимости человеческой сущности.
Говоря о постоянстве человеческой природы (а без допущения существования такого постоянства вообще не может быть речи о человеческой природе как таковой), нельзя, конечно, утверждать, что человеческая природа остается неизменной во всех отношениях. Человек создал для себя новый мир за счет современной, определяемой наукой и техникой формы своего бытия, и этот новый мир, в свою очередь, воздействует на все его бытие-в-мире. Таким образом, если человеческой природе свойственно постоянство, то это может быть лишь «постоянство-в-изменении». С другой стороны, исходя из изложенных выше соображений, можно утверждать, что если и происходит изменение человеческой природы, то оно должно происходить в рамках определенного постоянства.
Нахождение «золотой середины» между двумя противоположными взглядами на человеческую природу – эссенциалистско-внеисторическим и экзистенциалистско-прогрессистским – можно считать актуальной исследовательской задачей. «Золотая середина» не есть простой «компромисс» между этими двумя крайностями. Здесь должны быть приняты во внимание обстоятельства антропологического характера. И лишь на этой основе, собственно, и может идти речь о ревизии понятия человеческой природы.
То, что мы первоначально исходим из эволюционного аспекта и эволюцию в животном мире сравниваем с «самоэволюцией» человека, следует рассматривать лишь как начало таких исследований. Хёнгстенберг отмечает, что против «эссенциалистского» понимания не только человеческой природы, но и природы вообще в последнее время выдвинут ряд серьезных аргументов, особенно со стороны исследователей поведения. По его мнению, при определении сущности человека можно видеть две опасности. Одна заключается в том, что сама проблема обретает предельно абстрактный смысл. Но есть и иная трудность. Она состоит в том, чтобы растворить сущность человека в перечне присущих человеку качеств. Если считать, что о человеке можно говорить лишь как о таковом, тогда исключается вопрос о том, существует ли постоянная сущность или постоянная природа человека, остается лишь вопрос: может ли эта постоянная природа или сущность быть тем, чем она является, вне реального отношения к реальным обстоятельствам, в которых она себя реализует. На подобный вопрос следует дать отрицательный ответ. «Сущность» есть то, что она есть лишь в ее связи с соответствующими реальностями. В том случае, когда этот момент упускают, понятие человеческой природы приобретает «эссенциалистский» и «вневременной» характер, что в настоящее время справедливо отвергается, ибо подобное представление с необходимостью ведет к одностороннему априоризму.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: