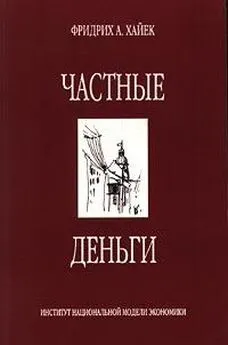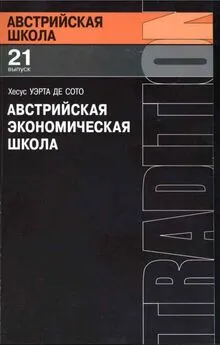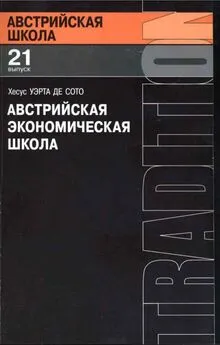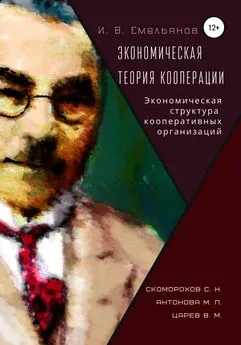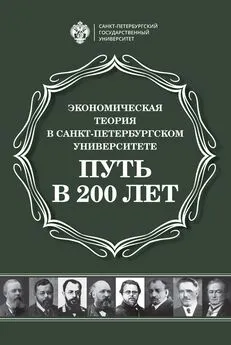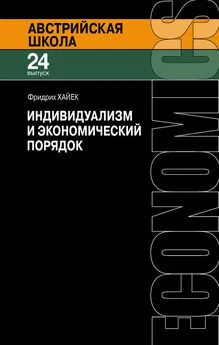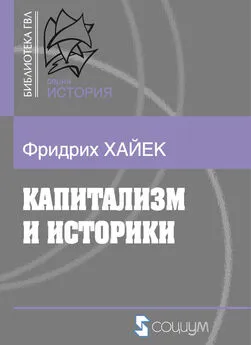Фридрих Хайек - Сборник эссе - австрийская экономическая теория и идеал свободы
Тут можно читать онлайн Фридрих Хайек - Сборник эссе - австрийская экономическая теория и идеал свободы - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Деловая литература.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Сборник эссе - австрийская экономическая теория и идеал свободы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Хайек - Сборник эссе - австрийская экономическая теория и идеал свободы краткое содержание
Сборник эссе - австрийская экономическая теория и идеал свободы - описание и краткое содержание, автор Фридрих Хайек, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Сборник эссе - австрийская экономическая теория и идеал свободы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Сборник эссе - австрийская экономическая теория и идеал свободы - читать книгу онлайн бесплатно, автор Фридрих Хайек
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Тука, которое он и принял в 1931 году. Здесь он попал в весьма вдохновляющую и увлеченную работой группу, к которой принадлежали: Лайонел Роббинс (позднее Лорд Роббинс), Арнольд Плант, Т.Е. Грегори, Денис Робертсон, Джон Хикс и молодой Абба Лернер. Хайек принес с собой незнакомые (для них) взгляды [Хикс говорит о первой (1931) английской книге Хайека, что ?"Цены и производство" были написаны на английском, но это не была английская экономическая теория?; Sir John Hicks, "The Hayek Story", in his Critical Essays in Monetary Theory (Oxford: Clarendon Press, 1967), p. 204] и постепенно австрийская теория делового цикла стала известна и была принята. Но в следующие несколько лет удача отвернулась от австрийской школы. Во-первых, австрийская теория капитала, составная часть теории делового цикла, попала под атаку рожденного в Италии кембриджского экономиста Пъера Сраффы и американца Френка Найта, а саму теорию цикла забыли из-за энтузиазма, возникшего по поводу Общей теории Джона Мейнарда Кейнса. Во-вторых, начиная с перемещения в Лондон самого Хайека и до начала 1940-х годов австрийские экономисты один за другим покинули Вену, сначала по личным, а затем по политическим причинам, так что школа как таковая прекратила существование. В 1934 году Мизес уехал из Вены сначала в Женеву, а затем в Нью Йорк, где он продолжил работать в изоляции; Хайек оставался в Лондоской школе экономической теории до 1950 года, а затем перебрался в Комитет по социальной мысли в Чикагском университете. Другие австрийские экономисты поколения Хайека достигли признания в Соединенных Штатах -- Готтфрид Хаберлер в Гарварде, Фриц Махлуп и Оскар Моргенштерн в Принстоне, Пауль Розенштей-Родан в Массачусетском институте технологии -- но в их работах, казалось, не осталось и следов Менгеровской традиции. В Чикаго Хайек опять попал в ослепительную группу: экономическое отделение, где тон задавали Найт, Якоб Винер, Милтон Фридман, а позднее и Джордж Стиглер было бы лучшим где угодно; Аарон Директор в школе права вскоре основал первую программу по экономической теории и праву; деятельное участие в преподавании принимали такие международно известные ученые, как Ханна Арендт и Бруно Беттельхейм. Но экономическая теория, в особенности стиль рассуждений, быстро изменялись: в 1949 году появились Основы Поля Самуэльсона, и утвердили физику как методологический образец для экономической теории; в 1953 году эссе Фридмана о "позитивной экономической теории" установило новый стандарт для экономических методов. К тому же Хайек перестал работать над экономической теорией, сконцентрировавшись на психологии, философии и политической теории, и австрийская экономическая теория вошла в период продолжительного упадка. В этот период два молодых человека, работавших вместе с Мизесом в Нью-йоркском университете, опубликовали важные работы в австрийской традиции: Мюррей Ротбард опубликовал в 1962 году Man, Economy and State, а Израиль Кирцнер в 1973 году -- Competition and Enterpreneurship. Но большей частью австрийская традиция пребывала в забвении. В 1974 году случилось нечто поразительное: Хайек получил Нобелевскую премию по экономике. Благодаря престижу этой премии интерес к австрийской школе возродился; в силу совпадения, в том же году ряд изолированных ученых, продолжавших работать в традициях австрийской школы, собрались на достопамятную конференцию в Южном Роялтоне, Вермонт.[Материалы конференции были опубликованы: The Foundations of Modern Austrian Economics, ed. Edwin Dolan (Kansas City: Sheed & Ward,1976). Двумя годами позже появился следующий том: New Directions in Austrian Economics, ed. Louis M. Spadaro (Kansas City: Sheed Andrews & Mcmeel, 1978).] Отсюда началось "австрийское возрождение" с всевозрастающим потоком книг, журналов и даже университетских программ, специализирующихся на традиции Менгера. Остальные экономисты также начали постепенно обращать внимание на австрийскую экономическую школу. Современная австрийская школа начинает оказывать влияние в таких областях, как теория банковского дела, реклама и ее взаимосвязь со структурой рынка, новое истолкование дебатов об экономических вычислениях при социализме [например: Lawrence H. White, Free Banking in Britain: Theory, Experience, and Debate, 1800--1845 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984); George A. Selgin, The Theory of Free Banking: Money Supply Under Competitive Note Issue (Totowa, N. J.: Rowman & Littlefield, 1988); Robert B. Ekelund, Jr., and David S. Saurman, Advertising and the Market Process (San Francisco: Pacific Institute for Public Policy Research, 1988); Don Lavoie, Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate Reconsidered (Cambridge: Cambridge University Press, 1985)]; более того, появившаяся примерно в последние 15 лет об экономической теории систем, работающих в условиях неполноты информации, и о теории стимулов может рассматриваться как результат работ Хайека о распыленном знании и ценах как информационных сигналах -- хотя об этом долге признательности часто забывают. [См., например, отрывки из словаря New Palgrave, опубликованные под названием Allocation, Information and Markets (London: Macmillan, 1989). Примечательно, что в расширяющихся макроэкономических публикациях о "срывах координации", начало которым положили теоретики Питер Дайамонд и Мартин Вейтцман нет ссылок на Хайека, хотя он в своих работах явно обсуждает проблему координации (см. Gerald O'Driscoll, Economics as a coordination problem: The Contributions of Friedrich A. Hayek (Kansas City: Sheed Andrews & Mcmeel, 1977). Обзор этой литературы см. у Russell Cooper and Andrew John, "Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models", Quarterly Journal of Economics, vol. 103, August 1989, pp. 441--463.] Для интереса современных экономистов к Хайеку есть и другая причина. Сегодня анализ рынка как механизма, порождающего благосостояние, идет в форме дискуссии между двумя сторонами: защитниками свободных рынков являются экономисты "новой классической школы", исходящие из предположений о сверхрациональном поведении участников рынка, вооруженных "рациональными ожиданиями" и о мгновенном клиринге рынков; и скептиками, которых относят к той или иной разновидности "кейнсианства", которые рассматривают ожидания как более проблематичные и считают, что ценовое приспособление происходит медленно. В полную противоположность этому Хайек основывает защиту рынков не на рациональности людей, но на их неосведомленности! "Все аргументы пользу свободы, или большая часть таких аргументов, покоится на факте нашей неосведомленности, а не на факте нашего знания" [из замечаний Хайека на конференции, организованной Конгрессом за свободы культуры, опубликованных как Science and Freedom (London: Martin Secker & Warburg, 1955), p. 53]. В понимании Хайека рыночные агенты следуют установленным правилам, отвечают на ценовые сигналы в рамках системы, возникшей в результате эволюции -- в рамках спонтанно возникшего, а не сознательно выбранного порядка; при этом их действия приносят системе в целом непредусмотренные выгоды, которые невозможно было разумно предвидеть. Для современного экономиста, для которого эволюция и спонтанность почти совсем не важны, это звучит странно.Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать