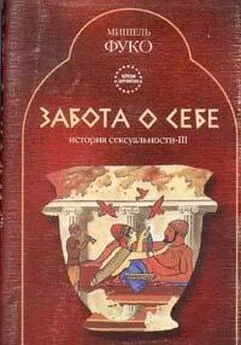Мишель Фуко - История сексуальности 4. Признания плоти
- Название:История сексуальности 4. Признания плоти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад Маргинем
- Год:2018
- ISBN:978-5-91103-566-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мишель Фуко - История сексуальности 4. Признания плоти краткое содержание
«Истории сексуальности» и вообще поздней мысли Фуко – исследование формирования субъективности как представления человека о себе и его отношения к себе. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
История сексуальности 4. Признания плоти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И наконец, вопрос о кайросе супружеских отношений показывает, как Климент интегрирует кодекс, действительно подхваченный им у эллинистических философий (и, несомненно, шире – у целого общественного движения), в религиозную концепцию природы, Логоса и спасения. Его решение, как мы увидим, существенно отличается от того, которое предложит святой Августин, а затем усвоят институты и доктрина западной Церкви. В размышлении Климента о кайросе было бы неверно видеть лишь более или менее искусную пересадку элементов, заимствованных из общепринятой морали и слегка подправленных в духе большей требовательности и строгости. Кайрос половых отношений определяется их связью с Логосом. Вспомним, что, согласно Клименту, Логос именуется «Спасателем», ибо он изобрел для людей «лекарства, которые задают верное направление их нравственности и ведут их к спасению», используя благоприятный «случай» [80] «<���…> Epitêron men tên eukairian». – Там же. I. 12. 100. 1 {«[Логос] охраняет их благобытие». – Цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 105}.
.
Климент исходит из положения, согласно которому целью половых отношений является деторождение. Этот тезис был общераспространенным. Мы встречаем его у медиков [81] [Текст примечания отсутствует.]
и у философов – либо в виде сопряжения трех терминов (нет половых отношений вне брака и нет брака, который не обретал бы свою цель в рождении детей [82] Музоний Руф. Большие фрагменты. XII. 64 {рус. пер.: Гай Музоний Руф . Фрагменты. Указ. соч. С. 83}: aphrodisia оправданы только в браке и с целью деторождения.
), либо в форме прямого осуждения всяких половых отношений, целью которых не является принесение потомства [83] Окелл Лукан: половые отношения служат не для удовольствия, а для рождения детей (De Universi natura. IV. 2).
.
Здесь, таким образом, Климент не оригинален, как и в различении внутри отношений целеполагания вообще «ближайшей цели», или «побуждения» (skopos), и «высшей цели» (telos). А вот приложение этого различения к области половых отношений, пусть оно и следует «духу» стоиков и логике их анализа, предпринималось до Климента по меньшей мере нечасто. Да и в его тексте оно приводит к результату, который на первый взгляд кажется лишенным плодотворного значения. «Ближайшая цель» – это «paidopoiia», делание детей, потомство в узком смысле слова. А «высшая цель» – это «euteknia», что переводится то как «благочадие», то как «многочисленная семья». Однако этому слову следует придавать более широкое значение: оно подразумевает обретение в своем потомстве, в жизни и благополучии детей счастья и удовлетворения [84] В «Никомаховой этике» (I. 8. 16) Аристотель говорит, что счастье в жизни определяется тремя вещами: «благородным происхождением», «красотой» и «euteknia» {«хорошим потомством»}, которое в будущем и в наследии человека равнозначно тому, чем при рождении и в прошлом выступают семья и благородное происхождение {см.: Аристотель . Никомахова этика / пер. Н. Брагинской // Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 68}. В таком значении слово употребляется Еврипидом в «Ионе»: «Помолитесь же, о девы, / чтобы древний Эрихтея / наконец венчался род. / В ясном слове Аполлона / обещанием детей» (468–470) {пер. И. Анненского}.
. «Ближайшая цель» (skopos) вступления в половые отношения состоит, в таком случае, в наличии потомства, а «высшая цель» (telos) – в положительном отношении к этому потомству, в чувстве самореализации через него. Два соображения, которые тут же добавляет Климент, предваряя ими основное содержание главы, проливают некоторый свет на ценность этого различения.
Вначале Климент сравнивает половой акт с посевом. Это традиционная метафора: она встречается и у Афинагора, и у Апологетов; в философских диатрибах с ее помощью часто иллюстрировали правило, согласно которому семя нужно бросать в такую почву, где оно сможет дать всходы. Но Климент использует ее также для того, чтобы четче обозначить различие между тем, что должно быть «ближайшей целью» половых отношений, и тем, что должно быть их «высшей целью». Побуждением земледельца, засевающего ниву, служит забота о пропитании, – бесхитростно сказано в тексте «Педагога», – но его целью является снятие плодов, то есть, надо полагать, доведение семян до той стадии их естественного развития, когда они приносят урожай. Это сравнение с посевом довольно-таки эллиптично, и всё же, пожалуй, оно позволяет соотнести с «побуждением» деторождение, о пользе которого для родителей, получающих от детей оправдание своего брака или поддержку в старости, так часто говорили философы, а с «целью» – нечто куда более общее и менее утилитарное, а именно то свершение, каковым является для человека наличие у него потомства [85] Здесь Климент без изменений заимствует тезис стоиков о том, что дети служат «завершением», или «совершенством» (teleiôtes), человека.
. И поскольку именно эту цель Климент стремится очертить в десятой главе второй книги «Педагога», анализируя кайрос половых отношений, он вполне обоснованно не касается личных выгод и общественных благ, которые может сулить рождение детей [86] Климент признает эти преимущества и упоминает их в «Строматах».
.
В том, что темой Климента является в данном случае именно эта неутилитарная цель, не оставляет сомнений рассуждение, которое следует сразу за метафорой посева. Земледелец «насаждает» лишь «для себя»; человек же должен «насаждать и сеять из послушания Богу». Таким образом Климент объясняет не столько цель, направляющую действие, сколько принцип, который его пронизывает и поддерживает от начала до конца [87] В оригинальном тексте сказано не «heneka tou theou» {«ради Бога»}, а «dia ton theon» {«из-за Бога»}.
. Акт сотворения – деторождения {[pro]création} должен быть совершен «из послушания Богу» как потому, что Бог сам его предписал, сказав «Размножайтесь», так и потому, что «человек, содействуя происхождению человека, становится образом Бога» [88] [Климент Александрийский. Педагог. II. 10. 83. 1 {цит. по: Педагог. Указ. соч. С. 182 (с изм.)}.]
.
Это рассуждение важно для всего анализа Климента, ибо оно закладывает в деторождение некоторую связь между человеком и Богом – связь тесную и в то же время сложную. То, что человек, рождая детей, становится «образом Бога», не следует понимать в смысле прямого сходства между чадородием потомков Адама и сотворением его самого. Несомненно, – как объясняет Климент в другом месте [89] Там же. I. 3, 7, 1 {цит. по: Педагог, творение Климента Александрийского. Указ. соч. С. 33 (с изм.)}. Бог создал человека собственноручно, ekheirourgêsen. Это различие между сотворением животных единым порядком и рукотворным созданием человека было распространенной темой в обсуждаемую эпоху (например, у Тертуллиана).
, – Бог «произвел своим всемогущим Словом» на Земле всех животных, а человека «сотворил собственноручно», обозначив тем самым существенную разницу и в то же время особую близость между собой и существом, созданным по Его образу и подобию. Но, согласно Клименту, это не означает, что в результате Творения человеку была передана существенная частица природы или могущества Бога: в нас нет ничего, что «совпадало» бы с Богом [90] «Божественное же милосердие изливается на нас в изобилии, хотя с Богом мы и не имеем никакого сходства ни по существу нашему, ни по происхождению и ни по каким-либо особенным свойствам нашим (têi ousia, ê physei, ê dynamei)». – Климент Александрийский. Строматы. II. 16. 75. 2 {цит. по: Строматы. Указ. соч. С. 241}.
. И тем не менее можно говорить о «подобии» Богу, как сказано в Книге Бытия: это подобие было у человека до грехопадения, и оно может и должно быть обретено им вновь. Это подобие – не «телесное сходство», но сходство по «духу» и «разуму», и оно поддерживается послушанием закону [91] «Kata noun kai logismon». – Там же. II. 19. 102. 6 {цит. по: Строматы. Указ. соч. С. 267}.
: «Закон говорит: „Господу Богу Вашему последуйте <���…>“, ибо послушание ему Закон называет уподоблением Богу. Через исполнение заповедей закона мы достигаем, насколько это для нас возможно, уподобления Богу» [92] Там же. II. 19. 100. 4 {цит. по: Строматы. Указ. соч. С. 264}.
. Таким образом, не само по себе деторождение в качестве естественного процесса «подобно» Творению, но только такое деторождение, которое осуществляется как до́лжно и как того «требует» закон. И если закон предписывает «жить в согласии с природой», то потому, что природа послушна Богу [93] Стоики, по мнению Климента, ошибались, когда говорили, что нужно соответствовать природе, тогда как следовало бы говорить о соответствии Богу (см.: Климент Александрийский. Строматы. II. 19. 101. 1 {рус. пер.: Строматы. Указ. соч. С. 264–265}).
.
Интервал:
Закладка: