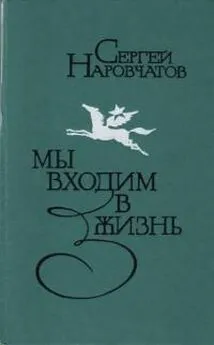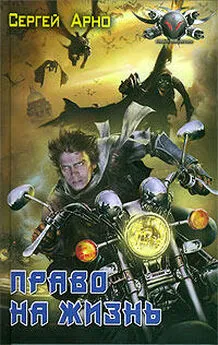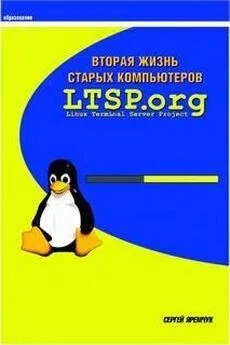Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь
- Название:Мы входим в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь краткое содержание
Мы входим в жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А путь был действительно долог. И оказался много трудней, чем мы предполагали. Восемнадцатилетние ребята, мы хлебнули лиха за эту поездку. Гребли и грузили, голодали и тонули, — чего только не было! Из Ростова-на-Дону возвратился к себе в Донбасс Костя: ему досталось больше всех, когда у нас ночью перевернулась лодка. Затянуло под баржу и вынесло с помятыми ногами вниз по течению. Продолжать путешествие он не мог. Еще раньше по телеграмме из дому уехал Саша. Вдвоем с Михаилом мы палубными матросами на грузовом пароходе добрались до Керчи, а оттуда в Феодосию. И вот мы лежим на августовском жарком пляже и лениво всматриваемся в суда на рейде. Одно из них останавливает наше внимание. На его борту написано белым по красному фону: «Гренада». Миша поднимается на локте: «Испания?» — «Да». — «Поедем?» — «Да». Ночью мы вышли в море. Безрассудная юношеская мечта, абсолютно неосуществимая, руководила нами. Мы хотели явиться к капитану и попросить взять его нас добровольцами в Испанию. Судно ушло еще вечером, и мы на своей романтичной лодке не дождались отказа. Так светловский хлопец со своей Гренадой второй раз погиб вместе с Мишей Молочко в далеких северных снегах. Нет, не погиб! Он живет во мне, живет во всех моих друзьях, младших и старших. Имя ему — ленинский интернационализм.
Спустя год мы собрались в новое путешествие. На этот раз в Среднюю Азию. Это была одна из самых интересных и перспективных поездок в моей жизни. В том, что поездка в незнакомые края всегда интересная, доказывать нечего. Но почему перспективная? Да потому, что мне, девятнадцатилетнему парню, впервые открылась тогда поэзия народного труда и ее дыхание — вблизи и в отдалении, поодаль или рядом — сопровождало меня всю жизнь. Дыхание народного труда, дыхание стройки Коммунизма!
А коммунизм опять так близок,
Как в 19-м году, —
писал Кульчицкий в то время.
Большой Ферганский канал уже тогда называли стройкой Коммунизма, и это не было пустым звуком. На его стройку сошлись по доброй воле дехкане соседних районов. Они не получали за это денег, им засчитывали работу на трудодни. Вода была нужна истомленной земле, и люди решили ей дать воду — после она отплатит им сторицей. Началась подлинно народная стройка. Мы — четверо ребят из Москвы — тоже поехали сюда по доброй воле, прочитав в газетах об узбекском почине. Нас никто не посылал и не завербовывал: снялись — и в путь, истратив на билеты студенческие стипендии.
Два с половиной года длился наш дружеский союз с Михаилом Молочко, и на эти тридцать месяцев пришлись ключевые события нашей юности. Горьковская романтика волжского путешествия, завершившаяся всплеском интернационалистической романтики на крымском берегу: «Поедем в Испанию?» Прообраз коммунистического труда на стройке Большого Ферганского канала. И наконец, та «война незнаменитая», как назвал финскую кампанию А. Твардовский, кончившаяся для меня госпиталем, а для Михаила гибелью.
А все это было соединено, овеяно, окрылено поэзией, романтикой, вечной юношеской мечтой «о доблестях, о подвигах, о славе». Все ребята, о которых я рассказываю, — Николай Майоров, Георгий Суворов, Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Михаил Молочко, — конечно, были людьми будущего. Они спокойно и непринужденно шагнули в него из студенческих общежитий, с военных дорог, из траншей и окопов. В посмертных публикациях было явлено новым поколением все до последней строки из созданного ими, и все это оказалось важным, нужным, ценным. Важно, нужно, ценно для тех, кто захотел до конца понять, почему мы победили в войне с фашизмом. Какие качества были свойственны победителям. А эти ребята были победителями и в своей жизни, и в своей смерти. Ни к кому более не подходило ближе старинное речение: «Смертию смерть поправ».
Из посмертных публикаций мои сверстники перешли в словари, справочники, энциклопедии. Но что неизмеримо значительнее: в обиходную память новых поколений и — мысленно снимаю шапку — в народную память. Называют улицы их именами, пионеротряды становятся в строй под их фамилиями, молодежь заучивает их стихи на память, пожилые люди пишут о них воспоминания.
Показательно, что каждый из этих ребят напряженно думал о будущем и пытался представить себя в нем. Наиболее четко об этом сказали в стихах Николай Майоров и Павел Коган. Оба тревожились, что будущее не разглядит их издалека, нарисует схемы вместо образов. Здесь они, к счастью, ошибались. Ведь если даже согрешили воспоминания, собственные их строки раскрыли бы истину. А истина высказалась бы до конца и показала моих товарищей через их стихи так, как они сами себя хотели бы увидеть.
От Михаила Молочко остались школьные дневники, статьи, неоконченная повесть. Стихами с будущим читателем, как, например, Майоров или Кульчицкий, он говорить не может. Отсюда особая роль живой памяти о нем. Перед войной, среди моих сверстников, он занимал видное место, и влияние его на окружающих было заметным. Постараюсь добавить новые черты к его портрету.
Думая о будущем, стремясь к нему, шагая в него, мои друзья несли на себе отпечаток давних судеб. Майоров напоминал героя «Юности Максима»; Суворов воскрешал в памяти черты офицеров 1812 года; Кульчицкий легко мыслился среди соратников Маяковского, да и сам был сходен с «красивым, двадцатидвухлетним»; Михаил Молочко был одним из самых действенных среди нас, может быть самым действенным. И я свободно представлял его молодым революционером прошлых лет. Мы недавно отметили 150-летие декабристского восстания. Как юный Одоевский, мой товарищ мог бы сказать: «Мы умрем. Ах, как славно мы умрем», — и подставить грудь николаевской картечи. В 60-е годы прошлого века он печатался бы в «Современнике», пошел бы в Сибирь вслед за Михайловым и Чернышевским. В 70-е — уходил в народ, а в 80-е — метал бомбы в царя и кончил бы жизнь в Шлиссельбурге или на эшафоте. Двумя десятилетиями позже стал бы пропагандистом ленинской «Искры».
Это смелое допущение опирается на близкое знакомство с Михаилом, соединявшим в моих глазах идею и действие. Характер у него был, безусловно, героический, все время искавший выхода накопившимся силам. Силы были немалые, но до поры вступавшие в противоречие с чрезмерной юностью моего друга. Не было, опять-таки до поры, и настоящих точек приложения этих сил. В Испанию, доберись мы даже до заветного парохода, нас все равно бы никто не взял. Капитан, наверное, сперва рассердился, потом заулыбался, но спровадил бы нас обратно на крымский берег. Мы тогда, как говорится, еще носом не доросли до холмов Гвадалахары. Большой Ферганский канал был уже осуществлением идеи, но очень быстролетным, скорее давшим зарядку на будущее, чем реализацию в настоящем. «Незнаменитую войну» он обязан был пережить, и тогда бы мы услышали о его больших делах на большой войне. Но трагическая случайность оборвала его путь в февральских сугробах сорокового года. Не повезло.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: