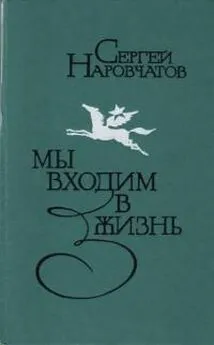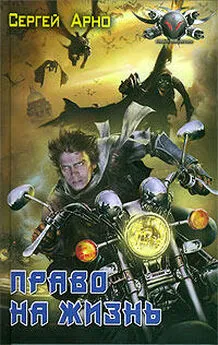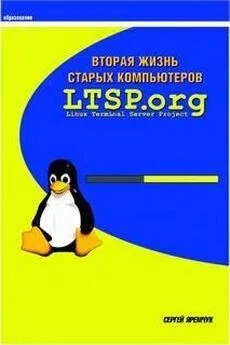Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь
- Название:Мы входим в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь краткое содержание
Мы входим в жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«История этих стихов печальна и, если угодно, романтична. Я стихи считал пропавшими и, написав их в блокадном Ленинграде 1943 года, помнил только название «Утро над Невой».
В позапрошлом году мне их прислал из Новосибирска Леонид Решетников. Он готовил к печати книгу Георгия Суворова, хорошего поэта, родом и воспитанием сибиряка. В поисках материалов составитель обратился в Нарву, под которой погиб Георгий Суворов. В нарвском музее хранилась полевая сумка поэта-гвардейца. Ее вскрыли и среди полуистлевших бумаг обнаружили эти стихи.
Георгий Суворов был моим близким другом, я послал ему стихотворение с одного участка фронта на другой. Он получил его незадолго перед своей гибелью на нарвском льду зимой 1944 года. Прошло почти тридцать лет, и стихи вернулись ко мне. Здесь можно бы вывести приличествующее случаю умозаключение, но не стоит этого делать. Бывают факты, поражающие именно своей пронзительностью».
Я и сейчас ничего не хочу к этому добавлять, разве что, владей мной суеверное чувство, мне подумалось бы, что давний мой товарищ шлет напоминание о себе и в таком случае теперешний очерк стал бы ему ответным посланием. Но я давно растерял все суеверия, оставив их ради спокойной веры в непременность чувств, владевших нами во фронтовой молодости. Постоянным отражением и воплощением ее стал для меня Георгий Суворов.
Вспоминая о нем, я часто повторяю ранние пушкинские строки:
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия,
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья,
Когда возвышенные чувства —
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так пылко волновали кровь...
Возвышенные чувства! В них был весь Суворов, вся его поэзия.
В армейской газете
Изба офицеров связи стояла на пригорке. Шагнув через порог в облаке встречного пара, я не сразу различил знакомые лица: Пантюшин, Лебедев, Стекольников... А это кто?
За столом в расстегнутом полушубке сидел человек, которого я почти наверняка где-то встречал. Но где? Память на лица у меня была фотографическая. Раз увидев, запоминал навсегда. И тут это широкое лицо — с кустистыми бровями под выпуклым лбом, удивительно российское, обыденное и необыденное вместе, показалось мне давным-давно знакомым.
— Здесь товарищ из Питера, по твоей линии, — доверительно обратился ко мне Федя Пантюшин. — Приказано доставить его до дивизионного КП.
Знакомый незнакомец приподнялся из-за стола и по-штатски отрекомендовался:
— Александр Прокофьев.
Прокофьев! Ну конечно же это тот самый, чей портрет открывает книгу его стихов. Она лежит в моем рюкзаке, еще бы не помнить лицо, теперь только оно постарше довоенного.
Эти летучие мысли проносились у меня в голове, пока я жал руку Александру Андреевичу.
— Мы вас так ждали, — обрадованно говорил я, — так ждали! Меня в редакции не было, послали в дивизию, а то бы раньше познакомились!
— Ну и хорошо. Ну и хорошо, — слышалось в ответ глуховатое приладожское оканье. — Зато здесь познакомились, на пороге, как говорится, событий. Как тебя звать-то? Сергей? «Вся деревня Сергеевна», — неожиданной ухмылкой перемежил он взаимное представление и сразу же, совсем по-домашнему, добавил: — Ты здесь, Сережа, человек свой, а я пока что пришлый. Куда меня посылают-то? Может, подальше от передовой, чтоб ненароком не убили поэта? Скажи по правде, ведь мне такой резон не подойдет.
— С Федей,— кивнул я в сторону Пантюшина, — попадете куда нужно. Его в тихие места не посылают.
Федя довольно сожмурился.
Через день в одной из наступающих рот я вместе с солдатами прочитал шапку на свежем номере «Отважного воина», газеты 2-й Ударной армии.
Враг задрожал от удара такого —
Бейтесь, как бьются бойцы Полякова!
А дальше шло короткое сообщение о том, что разгромлен сильный опорный пункт немцев — роща Круглая.
«Вот где оказался Александр Андреевич, — подумал я,— только б и впрямь не было беды».
Беды, к счастью, не случилось, и вскоре мы встретились с Прокофьевым в редакции уже как старые знакомые.
Все это происходило в январские дни 1943 года, в дни прорыва блокады. Александра Прокофьева к нам направили из Ленинграда по ледовой трассе через Ладожское озеро «для смычки и помощи», как заявил, поблескивая веселыми очками, наш редактор Алексей Иванович Прохватилов. Все пошло по его словам: смычка оказалась крепкая, а помощь великая. В каждом номере газеты во время боев гремели строки Прокофьева.
У каждого из нас было свое РОСТА. В заводских многотиражках и районных газетах проходили мои старшие товарищи школу партийного слова. Молодые ребята вроде меня впервые прошли ее во фронтовой печати. Многое она дала нам: мобильность, быстроту реакции, политическую хватку. Но прежде и раньше всего — прямой разговор с народным читателем. Этот читатель был одет в солдатскую шинель, в его руках было оружие победы, и мы писали для него.
Передо мной сейчас лежат старые номера «Отважного воина». Каким-то чудом сохранились они в одной из моих давних папок. По-настоящему их следовало бы читать, включив проигрыватель с пластинкой «Священная война». Только так, пожалуй, можно вполне ощутить скромное величие этих солдатских листков. Армейская печать! Изо дня в день несла она свою службу на передовой, где весь недолгий срок жизни очередного номера солдатской газеты сотни раз проходил у нас на глазах. Сперва сводка Совинформбюро. В сорок первом она никого не радовала вплоть до декабрьских побед, когда газеты стали рвать из рук: «Москву отстояли! Гонят немцев!» Летом сорок второго после чтения сводки тяжелое молчание провожало названия оставленных городов. Но как же раскрывалось солдатское сердце навстречу добрым вестям после перелома войны! Особенно это бросалось в глаза, когда победа была еще в новинку. А прорыв блокады был именно первой победой в наступившем сорок третьем году. И я помню, как по нескольку раз перечитывали бойцы номер «Отважного воина» от 19 января со сводкой, сообщавшей, что накануне блокада Ленинграда прорвана. В последующие времена радость при вестях о победах нарастала и возрастала, пока не достигла предельного взлета 9 мая 1945 года, но счастье первых побед всегда оставалось жить с нами. Не боясь прослыть сентиментальным, скажу, что такое ощущение, наверное, сродни чувству первой любви.
За сводкой Совинформбюро шло чтение местных армейских сообщений, вроде взятия рощи Круглой. Обычно они сопровождались заметками такого рода: «Разведчик Панфилов взял в плен 8 немцев», «Отважный сын Казахстана Кентай Тураханов», «Один против взвода», «Грозный мститель». Изредка заметки подписывались работниками редакции, но, как правило, они шли за подписями солдат. И часто герой заметки и ее автор обсуждали достоверность материала, стукаясь лбами над свежим номером газеты. «Как же это ты обо мне написал, когда ты двух слов на бумаге связать не можешь! Видел я, как ты письма жене пишешь, словно мешки таскаешь». — «Да я рассказал тут лейтенанту из газеты, он все это записал, прочел мне, а я подпись поставил». — «Ишь как здорово! А откуда ты взял, что я целый взвод из своего «максима» скосил? Откуда такая точность? Считал, что ли?» — «Считал не считал, а прикинул, что около взвода». — «Так так и надо было сказать». — «Отвяжись ты от меня. Хвалят дурака, а он еще ругается».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: