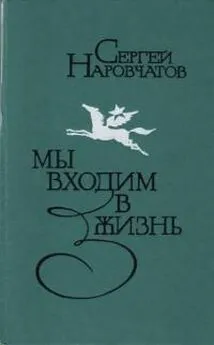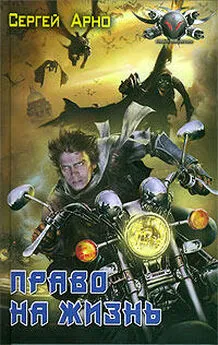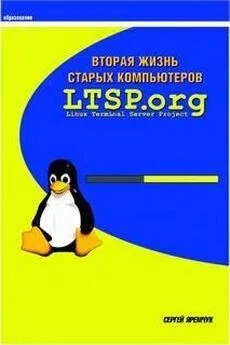Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь
- Название:Мы входим в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь краткое содержание
Мы входим в жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пройдите по улицам своих городов. Сколько улиц названо именами павших товарищей! Среди них вы найдете улицы Николая Майорова и Георгия Суворова. «Бригантина» Павла Когана развернула паруса через много лет после его героической смерти под Новороссийском. В Могилеве и Харькове бережно хранят память Михаила Молочко и Михаила Кульчицкого. В Москве вышли посмертные книги наших друзей. Не счесть сборников, в которых напечатаны их стихи. Студенты пишут курсовые и дипломные работы об их творчестве.
В утверждении памяти этих замечательных ребят большую роль сыграли их друзья, пережившие войну: Виктор Болховитинов, Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Сергей Орлов, Михаил Дудин, Владимир Жуков и многие другие. Но, оглядываясь далеко назад, видишь, что первое осмысление нашего пожизненного долга дал еще в 1940 году Михаил Луконин. И за это ему всегдашнее спасибо. У него с рождения была чуткая душа, и как раз она дала ему возможность уловить одно из главных чувств поколения — чувство дружбы, сплоченности, единения. Единения на годы, до конца...
Нашему сближению с Лукониным, наверное, подсознательно помогло то, что и он, и я только что потеряли своих лучших товарищей. Он— Николая Отраду, я — Михаила Молочко. Конечно, это не было заменой: в дружбе замен нет. В молодости чувство локтя попросту необходимо, потом оно не то что ослабевает, а трансформируется в более широкие понятия. Теряется, к сожалению, непосредственность и свежесть, но не век же быть всем нам двадцатилетними.
Передо мной книги Луконина. Строка за строкой, страница за страницей, и чуть ли не везде частицы общей памяти. Вот стихи, ставшие знаменитыми: «Приду к тебе» и «Пришедшим с войны». Я даже помню первые варианты, Михаил мне присылал их в письмах. Последующие исправления характерны не только привычной работой над словом, а иной раз как бы психологическим переутверждением. Первый вариант «Приду к тебе» ослабляла излишне точная рифма (бывают и такие случаи). Рифмовалось «роковом — рукавом», и строфа приобретала выспреннее звучание. Потом Луконин заменил «роковом» на другое слово, добротно, но не столь полно рифмующееся, и концовка стихотворения приобрела теперешиее хрестоматийное звучание:
В этом зареве ветровом
выбор был небольшой.
Но лучше прийти
с пустым рукавом,
чем с пустой душой.
Стихи «Пришедшим с войны» были бы интересны для исследователей психологии творчества. Конец стихотворения, утверждавшего непрерывность подвига, переход его из боевого в трудовой заключался обращением к женщине: «Ты прости меня, милая, || Ты мне жить помоги». Строки сочинялись в нелегкую для Михаила пору, и «жить помоги» перерастало в возглас: «И кольцо твоих рук, как замок, как венок, как спасательный круг». Луконин вскоре почувствовал, что такой вывод противоречит основной мысли стихотворения, где были такие слова:
Нам не отдыха надо
и не тишины.
Не ласкайте нас званьем:
«Участник войны!»
Нам —
трудом обновить
ордена и почет!
Жажда трудной работы нам ладони сечет.
Что здесь поделать? Изменились в это время и психологические обстоятельства. Смелая рука поэта переутверждает концовку, и теперь стихотворение выглядит цельным с начала до конца. А конец получается поистине великолепным:
Я вернулся к тебе,
но кольцо твоих рук —
не замок,
не венок,
не спасательный круг.
«Заменил «как» на «не», — скажет неискушенный читатель. — Всего делов-то!» Нет, «делов» здесь много, и лишь рука молодого мастера могла осуществить такую переориентировку стихотворения. Рука, которой водило ощущение поэтической и политической незавершенности стиха. И я уверен, что луконинские стихи в окончательном варианте помогли многим и многим фронтовикам найти свое место в мирной жизни.
Стихи «Мои друзья», в которых поэт пишет в госпитале под диктовку раненых письма к их родным, Михаил читал мне на площадке полупустого трамвая, когда мы ехали с ним на вечер в фабричном клубе. Клуб был где-то у черта на куличках, трамвай шатало из стороны в сторону, громкий шепот Луконина не давал пропасть ни одному слову. Победа еще не праздновала двухлетний юбилей, война только отгремела, люди луконинских стихов, недавно вышедшие из госпиталей, заполняли московские улицы. Стихи на меня произвели тогда сильнейшее впечатление, и оно не исчезло до сих пор. Поэт пишет письмо любимой ослепшего в боях человека. В порыве горького самоотречения раненый хочет покончить с прошлым и будущим счастьем. Поэт придумывает за него письмо, где жизнь дает отпор смерти.
Я взял перо.
А он сказал: «Родная».
Я записал.
Он: «Думай, что убит...»
«Живу», — я написал.
Он: «Ждать не надо...»
А я, у правды всей на поводу,
водил пером: «Дождись, моя награда...»
Он: «Не вернусь».
А я: «Приду! Приду!»
Шли письма от нее. Он пел и плакал,
письмо держал у просветленных глаз.
Теперь меня просила вся палата:
— Пиши! — Их мог обидеть мой отказ.
Луконин не был бы Лукониным, если бы ограничил стихотворение пересказом драматического случая. Он выводит лирическое повествование на широкие просторы всесоветской дружбы:
Друзей моих ведет ко мне земля.
Один мотор заводит на заставе,
другой с утра пускает жернова.
А я?
А я молчать уже не вправе.
Порученные мне горят слова.
— Пиши! — диктуют мне они.
Сквозная
летит строка.
— Пиши о нас! Труби!..
— Я не смогу!
— Ты сможешь!
— Слов не знаю...
— Я дам слова! Ты только жизнь люби!
То, что говорил поэт раненому в госпитале, повторяют ему теперь друзья со всех концов страны — его читатели. Для стихотворения это отличная находка, но, вообще-то говоря, Михаила любить жизнь уговаривать не приходилось. Редко встретишь такого жадного к жизни человека, как он. Сколько его помню, ничего вокруг себя упустить не хотел, а что упускал, то его, кажется, и не интересовало. И вместе с тем покоряющая щедрость. Не только к друзьям и любимым, а к посторонним и случайным людям. Конечно, как и у всех нас, в нем куча недостатков, но по природе своей он человек добрый, и доброта у него покрывает все шероховатости характера. Такая доброта от силы, а не от слабости.
Я помню его, как говорится, во всех случаях жизни. В счастье и несчастье, в радости и горе. Запомнились крепче всего напряженные моменты.
Помню, в первые дни войны нас, студентов Литинститута, только что принявших резолюцию об общем уходе на фронт, послали до времени в военизированный лагерь. Доехали, — кажется, по Северной дороге, — благополучно, разместились в палатках. Ночью меня будят — я был старшим в команде как секретарь комитета ВЛКСМ. Пакет из райкома комсомола, явиться туда в 10 часов утра вместе со всеми ребятами. Я сразу понял, в чем дело: заявлению о добровольчестве дан ход. И вот первым моим движением — душевным и физическим — было разбудить двух друзей — Михаила Луконина и Платона Воронько. Оба, как и я, прошли финскую кампанию; с ними можно было говорить обо всем. Через несколько минут они уже были в штабной палатке. Дал им прочитать предписание. «Начинается», — сказал Луконин. «Началось», — прибавил Воронько. Мы прошли уже северные снега, потеряли близких друзей, лежали в госпиталях, узнали, почем фунт лиха. Никаких иллюзий о легкости предстоящих испытаний у нас не было. Помолчали. Каждый заглянул в такую глубь, в которой и дна было не видать. Сейчас я как будто снова вижу своих друзей — суровых, сосредоточенных, решающих свою судьбу раз и навсегда. Пламя свечки чертило тени на лицах, папиросы прикуривались одна от другой. С этой ночи для нас троих, пожалуй, и началась Великая Отечественная война.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: