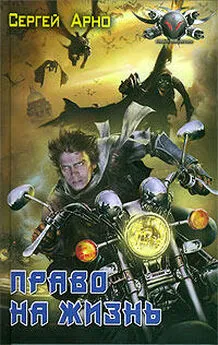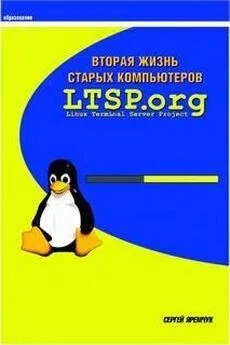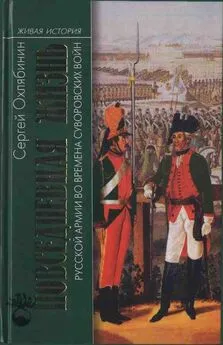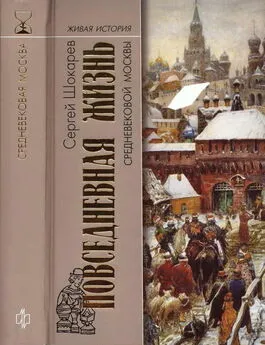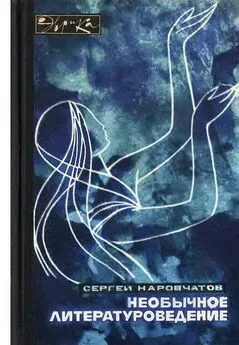Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь
- Название:Мы входим в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь краткое содержание
Мы входим в жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но эта растерянность, к чести всех Томок нашей молодости, быстро проходила и сменялась спокойной уверенностью в жизненной своей правоте. Фронтовая юность оставила им непреходящие ценности, которые нельзя было разменять на медь мещанства и обывательщины. Даже если бы они хотели, у них плохо это получилось бы:
Только разве это в нашей власти?
Разве ты не понимаешь сам,
Как непрочно комнатное счастье,
Наглухо закрытое ветрам?
Не буду говорить о само собой разумеющемся, о чем-то вроде того, что женщины-фронтовички активно включились в трудовую жизнь мирного времени. Конечно, «включились», да еще как включились! Война не любила белоручек, и наши девушки были мастерицами на все руки — все это потом пригодилось. Но главное, я считаю, не в этом. Главное — в той душевной чистоте и духовной закалке, которые приобретались с глазу на глаз со смертью. В сердце у каждой — иногда тише, порой громче — звенит та верная струна, по которой настраиваются все остальные. Бывает, конечно, что глохнет эта струна, а то и вовсе рвется, но это уже трагедия, и последнее ее действие горько досматривать. В те годы выработался твердый нравственный критерий, и безнаказанно переступать его нельзя — обожжет стыдом, и долго потом будешь мучиться, сравнивая себя теперешнего с тем, прошлым и лучшим.
Если ж я солгу тебе по-женски,
Грубо и беспомощно солгу,
Лишь напомни зарево Смоленска,
Лишь напомни ночи на снегу.
Так пишет о себе Друнина. Но у каждого есть свое «зарево Смоленска», и строки эти становятся общими для всех нас в своей нравственной значимости. А разумею я не только фронтовиков.
Это верная струна, зазвучавшая в военные годы, определила мотив всего творчества Друниной. Удивительная чистота тона и выверенность каждой ноты далеко не полностью объясняют притягательность этого мотива. Талантливая уверенность почерка бросилась мне в глаза в первых же ее стихах. Твердо, без оговорок, желая донести до слушателя лишь самое главное и говоря лишь о самом наболевшем, — так может писать лишь поэт, знающий цену и себе, и своему читателю.
Мы любовь свою схоронили,
Крест поставили на могиле.
— Слава богу! — сказали оба.
Только встала любовь из гроба,
Укоризненно нам кивая:
— Что ж вы сделали?
Я — живая!
Это сильные строки. И они действуют безотказно. Сила их, как и всего творчества Друниной, в том, что вы почти физически чувствуете боль человека, произносящего эти слова. Вы, наконец, видите этого человека, и вы ему верите безусловно. Вот что, пожалуй, и сообщает притягательность лирике Друниной — ее абсолютная человеческая достоверность. Причем достоверность значительного, а не пустячного. Иные поэты под предлогом «самовыражения» говорили нам все, что бог на душу положил. Но бог, как оказалось, положил им не так-то много. Выражаемое было либо мелким, либо никчемным. Так на кой черт нам сдалось их самовыражение? И раздосадованный читатель стал понемногу от них отворачиваться. Со стихами Друниной такого не произойдет.
Ее последние стихи всегда хочется считать предпоследними. Сказано главное, но сейчас пойдет еще главнее. Где только не побывала за эти годы бывшая фронтовичка! И всю Россию объездила, и чуть ли не во всех республиках Союза побывала, и заграницу увидела. И отовсюду стих о виденном и передуманном. Читаешь их с напряженным вниманием.
Да, сердце часто ошибалось,
Но все ж не поселилась в нем
Та осторожность, та усталость,
Что равнодушьем мы зовем.
Все хочет знать, все хочет видеть,
Все остается молодым.
И я на сердце не в обиде,
Хоть нету мне покоя с ним.
Перелистываешь одну за другой страницы ее книги и на каждой находишь что-то новое для себя. Новое и вместе с тем родственное по общности восприятия и совпадению жизненных оценок.
По улице Горького — что за походка! —
Девчонка плывет, как под парусом лодка,
Девчонка рожденья военного года.
Рабочая косточка,
Дочка завода.
Прическа — что надо!
И свитер — что надо!
С «крамольным» оттенком губная помада!
Со смены идет (не судите по виду) —
Ее никому не дадим мы в обиду!
Мы сами пижонками слыли когда-то,
А время пришло — уходили в солдаты!
Так фронтовое поколение подает руку теперешнему «младому, незнакомому». Такое ли оно «незнакомое»? Та же неуемная тревога в крови у этих девчонок и мальчишек, та же святая тревога, которая звала нас — всюду и везде — на передний край событий. И нынешние девчонки, «рабочие косточки», — прямые преемницы девушек «Каховки» Светлова и «светлокосых солдат» Юлии Друниной.
«Названый мой брат»
Шла вторая мировая война. Она шла уже седьмой месяц, но в Москве затемнения не было, вздорожания продуктов и строгого закона о прогулах с перестрелками на линии Мажино никто не связывал. Короткая финская кампания воспринималась как изолированное явление. Короткая! Она длилась три с половиной месяца, но пережившим ее показалась за три с половиной года. Среди них был и я. Наш 34-й добровольческий батальон хлебнул горя. Я об этом писал в очерке «На той войне незнаменитой» и любопытствующих отсылаю к нему.
Правда, возвращение с войны было ослепительным. Как-никак это была война, и притом настоящая. Лучшие мои друзья погибли на ней, а сколько было раненых и обмороженных... Я сам с черными ступнями валялся в госпитале, и лишь несокрушимое двадцатилетнее здоровье спасло меня от ампутации. На своих двоих — собственных двоих! — шел уцелевший боец 34-го легколыжного демобилизовываться в Сокольнический военкомат. Он находился на Стромынке, неподалеку от студенческого общежития, отсюда мы пасмурной колонной уходили на фронт. Нас было тогда сорок с небольшим человек. Возвратилось четверо.
В военкомате меня встретили как сына родного. Со всех комнат сбегались поглазеть на вернувшегося фронтовика. Я оказался первым из четверых и принес первые новости. Меня пожелал видеть сам военком. Дистанция между бойцом и капитаном была внушительной, но радушный здоровяк не дал мне ее почувствовать. Еще в поезде, когда я возвращался из глазовского госпиталя в столицу, меня окружило почтительное внимание соседей по вагону. Двадцатилетний мальчишка, каким я был тогда, стал магнитом, стянувшим к себе общее внимание: «Ну, как там, на финской?»
С таким же вопросом обратился ко мне и военком. Рассказал ему, тщательно отбирая выражения. Но и отобранных оказалось достаточно, чтобы капитан загрустил и, заглянув в недалекое будущее, сказал: «Теперь разговоров с родственниками не оберешься. Я их к тебе буду направлять. Если даже не видел, как погиб, говори, что видел. Да распиши погероичней, ребята-то были хорошие. Ты же, кажется, стихи пишешь». Откуда он это взял? На лбу, что ли, написана у меня такая склонность? О своих поэтических делах я ему не докладывал. Разве что мои друзья, справляясь обо мне, выложили все, что надо и не надо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: