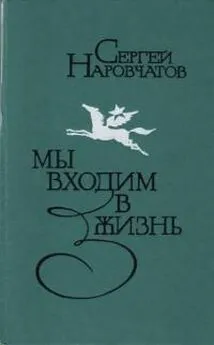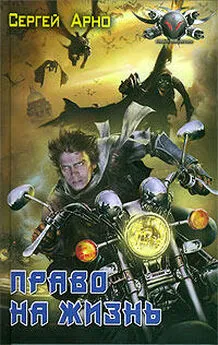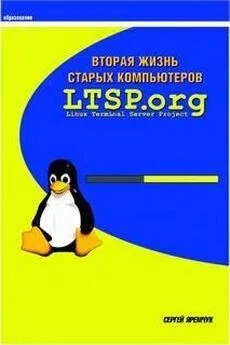Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь
- Название:Мы входим в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь краткое содержание
Мы входим в жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нет, Владимир Луговской, поэт божьей милостью, еще не сказал последнего слова. Оно было сказано им в последние годы жизни. «Солнцеворот», «Синяя весна», «Середина века» — сборник, книга, поэма. Три неколебимых вершины его творчества. Все лучшее, что было заложено и сохранено в широкой его душе, поэт явил миру в этих исповедальных стихах. Поэму он назвал «Серединой века», но перед читателем проходит все наше столетие, оборванное для поэта в 1957 году. Войны и революции шумят над землею.
Да, весь я твой, живое время, весь
До глуби сердца, до предсмертной мысли.
И я горжусь, что вместе шел с тобой,
С тобой, в котором движущие силы —
Октябрь, Народ и Ленин, весь я в них.
Они внутри меня. Мы неразрывны,—
пишет Луговской во вступлении к поэме. Мне привелось слышать в его чтении несколько глав «Середины века», особенно запомнилось «Лондон до утра». Когда я после побывал в британской столице, я все время сличал свои впечатления со строками Луговского. На отдалении меня поражала точность наблюдений и оценок поэта. Врезались в память строки о смерти Киплинга, он связал ее с началом второй мировой войны.
А Киплинг мертв!
И мертв не потому,
Что на четырнадцати окнах пали
Чешуйчатые траурные шторы,
Не потому, что строгая вдова
Собравшимся о смерти объявила.
Замолкнул навсегда жестокий голос,
Воспевший бремя власти, легкость гнета,
Сказавший миру, что Восток и Запад
Недвижны будут до конца веков.
Но Запад полон грозовой тревогой.
Близка, близка всемирная война,
И вихрь зари поднялся над Востоком,
Свои оковы Индия срывает,
Багровым светом пышут Гималаи,
Малайский тигр готовится к прыжку.
Одно из лучших качеств поэзии Луговского — масштабность в полном объеме проявилась в «Середине века». Масштабности в восприятии и обрисовке событий мы всегда у него учились, и здесь, напоследок, он снова развернул ее в щедром великолепии.
Порой Владимир Александрович звонил мне по утрам. Низкий голос: «Приходи, потолкуем». Садился в автобус, ехал на Лаврушинский. Дядя Володя встречал новыми строками, сообщал находки в старых книгах. «Послушай, какая рифма в давней песне: приветница — привернется. А знаешь ты, что знаменитое песенное начало «Во лузях» совсем не имеет в виду луга. «Лузь» — это прогалина в лесу. А слышал ты о прилагательном «часовой»? Временный, недолгий, а еще почетный, уважаемый. Вообще-то странно: значения противоположные. Впрочем, в уважаемости есть, конечно, оттенок временности. Сегодня тебя уважают, завтра нет», — и хмуро улыбнулся.
Огорошивал неожиданными сообщениями. Тогда боролись за независимость французские колонии. «Любопытно, — замечал Луговской, — что император Петр планировал и подготовил в 1723 году экспедицию на Мадагаскар. Написал письмо мадагаскарскому королю. Такового не оказалось. Переменил адрес, старейшинам, кажется. Мадагаскар мыслился как удобная стоянка по пути на Восток. Экспедиция не состоялась. Корабли дали течь и оказались непригодными к дальнему плаванию. Петр огорчился».
Романтика странствий и походов продолжала бурлить в сердце дяди Володи.
Но пришел день, когда русалка, странным миражем просквозившая на литинститутском семинаре, предъявила свои права на старого романтика теперь уже всерьез и навсегда. Холодная рука властно и неумолимо увлекла его в небытие.
Пелынь судеб человеческих
В Крыму стоял сухой и светлый июнь, серо-голубое море только набирало синеву, а ранние рассветы были холодны и прозрачны. Холмы вокруг поселка поросли полынью; нагретая за день солнцем, она пахла сильно и резко. Я написал о ней стихи, где называл ее «горчайшей и сладчайшею», но эти определения было бы вернее отнести к моему тогдашнему жизнеощущению. Перешагнув один порог, я стоял перед другим в коротком, но тревожном раздумье. Порогом этим была для меня финская война: я перестал быть мальчиком, но не стал еще мужчиной. И все же далекий до того мир взрослых становился уже моим собственным миром. Считанные недели, проведенные на войне и вылежанные в госпитале, показались мне если не годами, то месяцами. Дело было не в сроках, пережитое оказалось больше передуманного: пятидесятиградусные морозы, закоченевшие трупы вдоль лыжни, гибель лучших — самых лучших! — из нас, мокнущая гангрена, крики раненых — все это еще не улеглось и не перебродило во мне. И ведь такая катавасия свалилась на меня без всякого перехода... Вчера еще голубой дым студенческой вечеринки, строки «Синих гусар», тосты за романтику неизведанных дорог, а завтра — руки, примерзшие к «СВТ», хриплый голос отделенного: «Берегите патроны, нам еще пробиваться...», возвращение среди бесконечных сосен и елей по окаянным сугробам из рейда по тылам противника. Романтика, так ее перетак! Нет, с этим «взрослым миром» шутки плохи, стихами и тостами ему зубы не заговоришь...
Но ведь это только начало! Мы сами, записываясь добровольцами в лыжный батальон, смотрели на предстоящую кампанию как на разведку боем — большая война еще впереди. И она уже громыхает там, на Западе, докатится, наверно, и до нас, вопрос только в сроках... Тогда снова за винтовку, правда, кое-какой опыт уже есть, сразу не пропаду.
Такими были мысли первого, самого первого, но и самого живого ряда, а за ними вставали другие — большие и неповоротливые, — в виду которых все пережитое и твои друзья — да святится их память!— и ты сам, и вся финская кампания казались неприметными и незначительными. Нельзя сказать, чтобы я их страшился: в двадцать лет куда легче, чем в пятьдесят, справляться с вечными категориями, но с ними было трудно и неприютно. Зато они давали ощущение такого простора, что дух захватывало: на многие тысячи верст, во все стороны простиралась вокруг меня планета Земля, на многие тысячи лет назад и вперед от меня простиралось ее обозримое прошлое и необозримое будущее. Очень был я молод, и чудилось мне, что и Земля еще совсем молода, до удивительности и до фантастичности молода. Все тысячелетия, прожитые людьми до тех пор, слышались мною как короткая присказка к тому главному, что мне предстояло услышать.
А полынь на холмах пахла горько и сладко. Ветхий киевский профессор, старый весельчак, набредший на меня во время одной из своих ботанических прогулок, назвал ее неожиданным именем — артемизия. Слово угасшего языка вызвало в памяти жестокосердную, бледноликую богиню — тысячи лет назад, пустяки! — в жертву которой, на этих вот берегах, угрюмые тавры приносили потерпевших кораблекрушение путников. Но старик обращался с временами еще решительнее, чем я, совсем уж запросто: из гомеровских он перенес меня в допетровские, повторив тоже на угасшем языке старое изречение: «и преже суда чаемого излиася на нас пелынь судеб человеческих». И вскоре черный репродуктор, прибитый к телеграфному столбу возле поселковой почты, хрипло кашляя, прокомментировал это речение на современном материале: «Немецкие войска вошли в Париж».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: