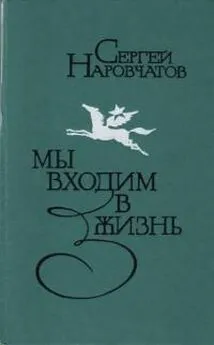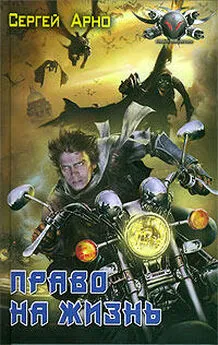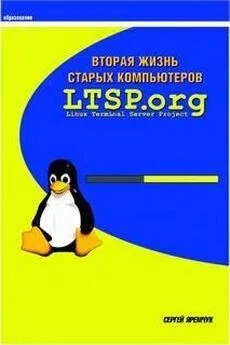Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь
- Название:Мы входим в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь краткое содержание
Мы входим в жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Гидаш любил возиться со мной, и, может быть, в этом тоже проявлялось неосознанное стремление к гармоничному миру, который заключает в себе каждый ребенок. Гармония не должна ощущать себя гармонией так же, как естественность не осознает себя естественностью, она просто естественность — и только. И я, конечно, ходил вверх ногами, выкидывал разные мальчишеские фокусы, озоровал и буйствовал, отнюдь не ощущая себя гармоничным созданием. Но если ребенка рассматривать как микрокосм гармонии, то, наверно, и сама гармония не представляет состояние застывшего покоя. Соразмерность — вот, кажется, главное, определяющее для него слово.
Гидаша переводили тогда еще мало, и он изредка, не для других, а для себя, наговаривал свои стихи по-венгерски. Если его спрашивали, он бегло и неохотно пересказывал содержание. «Ну, ночь, звезды, мечтаю». Ритм и звукопись я воспринимал на лету, а воображение легко дорисовывало картину, проглядывавшую из-за трех слов. Позже я оценил поэзию Гидаша по отличным переводам, главным образом Л. Мартынова, но всегда под ними волшебным подтекстом звучал тихий речитатив стихов, произнесенных на крымском берегу.
Итак, «эмоциональный Интернационал», поэзию и революцию — вот что соединил в себе Антал Гидаш в моем тогдашнем восприятии. Не слишком ли многое я в него вкладываю? Нет, не слишком многое. Прежде всего, он действительно вместил эти понятия, всей своей жизнью и творчеством содействовав их проявлению в людских душах. А потом, как солнечный луч является не только эманацией солнца, но и частью самого солнца, так и этот человек воплотил для меня все лучшее, что я видел в обитателях Дома Коминтерна.
То быстро, то медленно листались годы. Имя Гидаша прогремело над Красной площадью в Первомай 1933 года, когда вместе со всей демонстрацией мы, школьники, пели его «Марш ударников»:
Гудит, ломая скалы,
Ударный труд,
Прорвался лентой алой
Ударный труд.
В труде нам слава и почет,
Для нас кирка породу бьет...
Мне было тринадцать лет. Днепрострой на моих глазах превратился в Днепрогэс, а Магнитка в Магнитогорск. И это сделал как раз тот «ударный труд» миллионов строителей социализма, о котором мы пели сейчас песню. Она проходила по нерву времени и сама была этим нервом. С мальчишеской гордостью я вспоминал, что был знаком с ее автором. С Гидашем после крымского лета мы долго не встречались. Я читал его стихи и помню, какое впечатление оставил во мне сборник «Суд идет». Из него вставал тот же Гидаш, которого я знал в Крыму, но луч падал из грозовых туч. Я стал ощущать меру горечи, владевшей его душой. Стихи «Погибшим революционерам» о поражении разгромленной, но отказавшейся сдаться венгерской революции светили передо мной апокалипсическим видением.
Слыхали ль вы, когда фанфары,
Фаготы, трубы и тромбоны,
Привыкшие играть победу,
В печали головы склонив,
Играют траурные марши?!
И боль вам души сотрясает,
И горы сотрясает боль!
О страшная рыдающая осень!
Мы видим: их
По городу ведут,
В полночной мгле,
Средь бела дня,
Кого к петле,
Кого к стене,
Кого к реке...
Они проходят.
В крови их лица,
Безмолвны тубы,
И только руки
Зовут вперед...
Перевод И. Миримского
Я встретил Гидаша уже после войны, узнал его сразу же и напомнил о нашей давней встрече. Он заулыбался: «Ах, это ты, мальчик Сережа, вот каким ты стал...» Послевоенная жизнь его была нелегкой, он выглядел угрюмым и усталым. Но тут на моих глазах стал добреть, мягчать, отходить. И снова я увидел ту давнюю крымскую коминтерновскую улыбку.
Еще перед войной, в ИФЛИ, у меня появилась возможность вспомнить Гидаша, когда я познакомился с Агнессой Кун. По возрасту еще девочка, она рано вышла замуж за Антала. Очень яркое впечатление производила Агнесса. Среднего роста, она казалась высокой в своем черном облегающем свитере и короткой прямой юбке, открывавшей ноги до половины чашечек колен. Держалась она с замужней уверенностью, но возраст ее выдавали юная угловатость плеч и девичья худоба рук. Лицо ее было находкой для графика. Прямые волосы иссиня-черного нвета, цыганские глаза, броские губы могли впечатлить кого угодно. Дело прошлое, но она мне страшно нравилась, хотя, кажется, никогда не догадывалась об этом. Впрочем, я, может быть, преуменьшаю ее проницательность.
И теперь, после войны, возобновленное знакомство с Анталом было неотделимо от Агнессы. Я привык видеть их всегда вместе, и моя привязанность к Гидашу не разделилась, а как бы удвоилась. Их союз представлялся мне многозначным, далеко выходящим за пределы зарегистрированного в загсе брака. Дочь вождя венгерской революции, еще при жизни ставшего легендой (я еще помнил демонстрации с лозунгами «Свобода Бела Куну», он томился тогда в буржуазной тюрьме), она как бы символизировала в моих глазах обрученную с поэзией мятежную стихию. Высоко сказано? Но эти строки, черт побери, пишет поэт, а высокие предметы требуют подчас высоких слов.
Став своеобразным «alter ego» Гидаша, Агнесса ни в чем не поступилась самостоятельностью самолюбивой своей души. Творчески одаренный человек, она стала у нас настойчивым пропагандистом венгерской литературы. Мало того, что она сама дала отличные переложения ее классиков, но ей принадлежит честь сплочения наших хороших поэтов вокруг перевода венгерской поэзии, Мартынов и Самойлов, Заболоцкий и Пастернак вошли в эту добрую орбиту. Сколько было потрачено труда, сколько подстрочников сделано, сколько споров выдержано с упрямыми и своевольными перелагателями! Спорить с мастерами дело трудное, но Агнессе, приобретшей необходимую закалку в общении с Гидашем, эти споры удавались. Венгерская поэзия переведена у нас хорошо, и здесь значительная часть заслуг Агнессы Кун.
Гидаш подарил мне «Господина Фицека», я и раньше читал этот роман, но тут перечитал повторно. Поэты обычно умело пишут прозу хотя бы потому, что привыкли взвешивать каждое слово больше, чем люди, не имевшие отношения к поэзии. Но здесь наличествует всегдашняя опасность. Именно внимание к отдельному слову и его метафорической сущности уводит поэта, ставшего прозаиком, от логической последовательности. Произведение начинает являть вид мозаики, где каждый камешек чересчур притягателен, настолько притягателен, что слишком долго удерживает взгляд, которым ты должен объять всю картину.
Часто такие произведения бывают изумительны, но они уже образуют особый жанр, получивший название «проза поэта». Большой прозой они не становятся. Другой пример легко почерпнуть у классиков. Пушкинская и лермонтовская проза — как бы доказательство от обратного. «Я ехал на перекладных из Тифлиса». Средства поэзии будто и не существовали, поэзия не на поверхности, как в первом случае, а спрятана в глубине. Строгое точное повествование, производившее на современников впечатление суховатости и даже оголенности. Да и позже Лев Толстой, перечитывая Пушкина, обращал на это внимание. Не в упрек поэту, а, так сказать, в констатацию факта. Дело здесь не только в размерах дарования, хотя, конечно, вкусу Пушкина и Лермонтова можно доверять безоговорочно. И не только вкусу, а, как бы мы сказали сейчас, творческой позиции. Ахматова и Цветаева для меня таланты равновеликие, но вот проза Ахматовой содержит в себе черты пушкинско-лермонтовской традиции, а цветаевская проза являет черты прямо противоположные: хорошо, образно, но — «проза поэта».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: