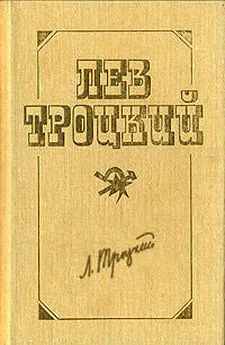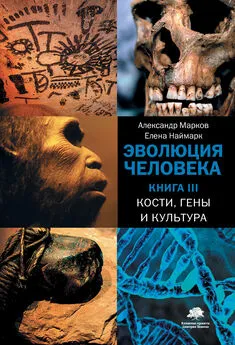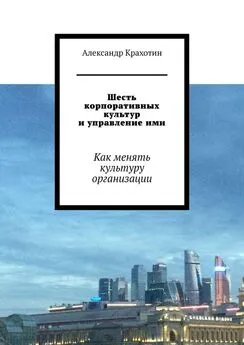Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]
- Название:Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-13329-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres] краткое содержание
Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, герменевтика – это наука, направленная на фактичность, на данности, на факты (причем фактом может быть все что угодно, например фантазия или страх). Но, будучи направленной на эту, фактичность, герменевтика эту фактичность дематериализует, превращая в предмет постоянной интерпретации и постоянной работы над собой. Она, по сути дела, освобождает нас от готовых фактов и ставит лицом перед смыслами, которые могут быть извлечены из отдельных фактов.
Получается, что перед нами работа не по производству знаний, а по производству смыслов, и данные смыслы появляются перед нами во всей неприкрытый очевидности. Уже упоминавшийся наследник герменевтики в наши дни Х.-У. Гумбрехт говорит, что гуманитарные науки занимаются производством присутствия: делая выводы из гуманитарных наук, мы тем самым усиливаем присутствие какой-то идеи в мире, в отличие от естественных наук, которые скорее производят отсутствие. Естественные науки открывают перед нами устройство мира и показывают, насколько мир не похож на те представления, которые мы о нем имели, они производят отсутствие, а гуманитарные науки, заставляя поразмышлять над собственной судьбой, насколько она роковая или нет, производят присутствие.
Итак, для герменевтики современного типа важнейшим понятием становится понятие внутреннего опыта, который отличается от опыта познания окружающего мира, от внешнего опыта. Внутренний опыт не обязательно тождествен психологическим переживаниям. Внутренний опыт просто позволяет разобраться в себе и со своими обстоятельствами, исходя не из их познания, а из их интерпретации. Внутренний опыт, в отличие от внешнего, основывается на интерпретации уже известного, на перечитывании себя, как перечитывают роман.
Лекция 9. Постмодерн: история в современности
Долгое время история понималась как объективное знание, и естественная привычка требовала считать историю главным поставщиком объективного знания об обществе. Историзм считался главным принципом вообще установления какой-либо истины об общественном развитии. Но ХХ век показал, что история во многом зависима от того способа, которым она ищется. Первыми обратили внимание на расхождение истории как рассказа и истории как экзистенциальной ситуации стали представители французской историографии, такие как Марк Блок и позднее возникшая школа (а точнее, исследовательская программа) при ежегоднике «Анналы».
Сразу выяснилось, что, когда историк начинает создавать свой труд, он исходит из представлений собственной эпохи – например, представлений о цивилизации или народе, которые нельзя беспроблемно применить к давним эпохам. В этом смысле для анналистов (представителей школы «Анналов») основным предметом изучения стало позднее Средневековье, прежде всего французское, как эпоха, в которую понятия о народе, речи, общей судьбе или враге вырабатываются в самой народной среде. Такие понятия (не научные понятия, а скорее сценарии или программы действия) создаются и адаптируются в каждом регионе по-своему: каждый регион вырабатывает не только собственный стиль экономической жизни или стиль политической жизни, но и собственный понятийный стиль. Круг понятий, которыми располагает маленькая деревня, весьма отличается от того круга понятий, которыми располагает крупная деревня.
Изучение ментальности, как суммы этих понятий и интеллектуальной установки не -интеллектуалов, благодаря «Анналам» вошла в современную теорию и историю культуры, прежде всего в лице представителей так называемой микроистории. Мэтры микроистории, такие как Карло Гинзбург (р. 1939), обращают внимание на частные ситуации (кейсы), прослеживая, как в данном кейсе сказываются или предвосхищаются более масштабные процессы. Они распознают по признакам внутри каждого кейса самые важные исторические сдвиги. Кейс позволяет на «лабораторном уровне» пронаблюдать связь между умственными установками, экономической деятельностью и политической деятельностью – вообще связь между социальной позицией и реальными поступками и решениями. Можно выяснить, насколько то или иное мировоззрение оказалось глубоким или поверхностным, насколько те или иные поступки были результатом свободной воли или давления извне, и ответить на многие другие вопросы, которые обычно находились за границами рассмотрения историков.
Традиционные историки исходили из представления об исторической необходимости, из того, что у человека есть свободная воля, но общее развитие истории имеет собственную логику, внутри которой свободная воля оказывается лишь одной из равнодействующих необходимости. Это постоянно встречалось у историков XIX века. С одной стороны, они подчеркивали свободу исторического деятеля в каждый момент, что он принимал решение сам и мог бы решить иначе, а с другой стороны – необходимость всех процессов. Отсюда общие места вроде «война все равно бы началась», и если она началась в данный момент, то якобы лишь для того, чтобы явить доблесть действующих лиц прямо сейчас наиболее удачным образом.
История тогда была не просто наукой, но определенным жанром изложения, организующим нарратив. Как нарратив, история восходит к античным образцам, к античному повествованию, вмещающему дух трагедии; отсюда представление о свободной воле человека и о роковых обстоятельствах, с которыми рано или поздно сталкивается свободный человек. По сути дела, когда мы читаем школьный учебник по истории, или читаем популярную биографию, или смотрим научно-познавательный фильм, мы имеем дело не с историей как таковой, а с определенным литературным жанром, который вырос через множество опосредований из древнегреческой трагедии.
То, что часто принимается за аутентичные традиции, на самом деле часто было изобретено очень поздно, уже в эпоху промышленного развития. До развития крупной промышленности, до второй половины XIX века, не могло существовать никаких шотландских килтов, русских матрешек, итальянских пицц. Но бывают и другие случаи, когда, наоборот, не распознается древнейший обычай. Например, в современной монотонной декламации в православных церквах никто не распознает передававшийся из поколения в поколения канон чтения поэзии: именно так читали Гомера и Пиндара в Древней Греции.
Важная часть современной науки об истории – изучение массовых представлений об истории. Массовые представления об истории всегда складываются из разных источников. Сейчас лидируют кино и телевидение, но также влияют рассказы старших, старые вещи, обычаи и многочисленные тексты – от лозунгов до романов, от поговорок и афоризмов до серьезных научных трудов. Часто представления об истории формируются местными музеями, особенно в таких странах, как США или Бельгия, где ценят не только военные, но и технические достижения прошлого и пытаются «гуманитаризировать» свой технократизм. Свою лепту вносит и популяризация науки с идеей «хроники» (timeline) изобретений и открытий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)