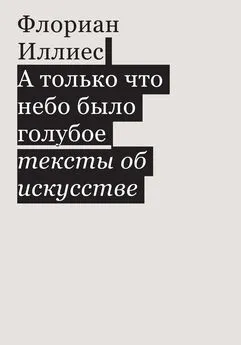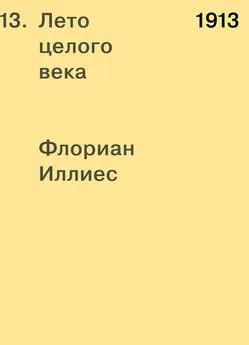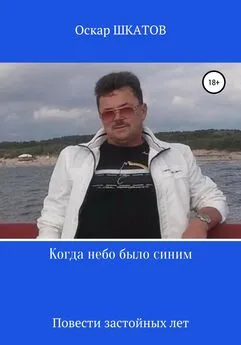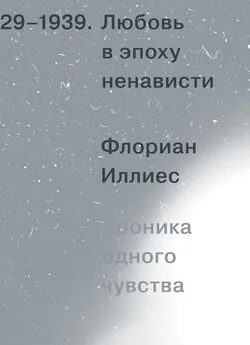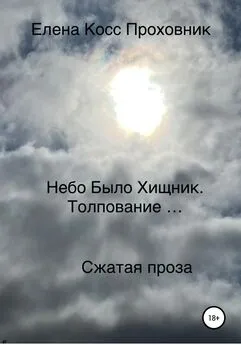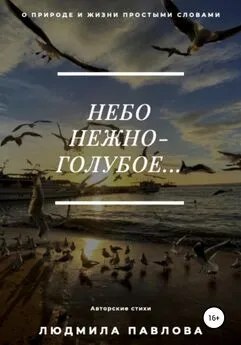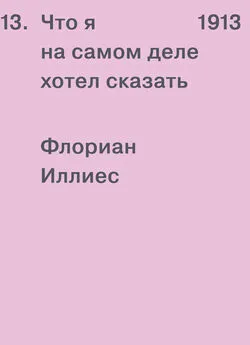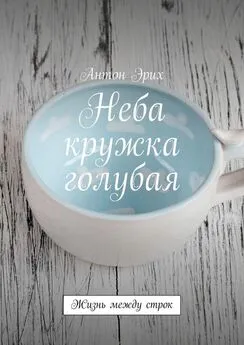Флориан Иллиес - А только что небо было голубое. Тексты об искусстве
- Название:А только что небо было голубое. Тексты об искусстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91103-481-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Флориан Иллиес - А только что небо было голубое. Тексты об искусстве краткое содержание
А только что небо было голубое. Тексты об искусстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В период с 1780 по 1850 год Везувий присутствует в искусстве в трех ипостасях. Во-первых, это тот жанр, для которого Йорг Тремплер придумал название «портрет Везувия». Первую картину этого жанра в немецкой пейзажной живописи написал Гаккерт, это была «Гавань Санта-Лючия в Неаполе» 1771 года. В центре этого направления – этюд маслом Карла Блехена 1829 года, маленькая гениальная картина, всего несколько мазков кисти, работа на тему симметрии с двумя горными вершинами в центре, голубым морем перед ними и голубым небом за ними. Тот факт, что Везувий немножко дымится, художник благодарно принимает к сведению, но больше ради композиции, которая без дыма была бы слишком монотонной. Автором же финального кадра в этом каталоге пусть будет Карл Вильгельм Гётцлоф [96] Карл Вильгельм Гётцлоф (1799–1866) – немецкий художник-пейзажист.
. В своей картине «Над Неаполитанским заливом» (ок. 1850) извержение вулкана уже позади, пейзаж успокоился, торжествуют штиль и умиротворенность. В этом портрете Везувия портретируемый из вулкана стал снова горой.
Второй жанр – тот, который Карл Густав Карус однажды определил понятием «картина землетрясения». Это картины, на которых чувствуется дрожь и грохот земли. Например, на эффектном полотне Иогана Кристиана Даля «Извержение Везувия» 1826 года – особенно тут впечатляет перспектива. Вулкан расположен слева, половина картины в густом темном дыму, а справа открывается вид на очаровательный, озаренный солнцем Неаполитанский залив. Мы видим Неаполь, мыс Позиллипо, а где-то в дымке виднеется даже остров Искья. А еще там есть два туристических гида с осликами, доставившие к кратеру двух своих клиентов – но по сравнению с картиной Гаккерта фигуры стали маленькими. Это уже не жестикулирующие туристы XVIII века, прибывшие сюда с образовательными целями, теперь это две романтические фигуры, повернувшиеся к нам спиной. И это больше не приключение, а новая форма отношений между человеком и природой. Эта картина была написана в мастерской, Даль объединил в этой большой работе свои впечатления, которые он в 1820–1821 годах зафиксировал в экспрессивных этюдах с натуры. Это последний взгляд на Неаполь с вулкана – у других художников направление взгляда меняется, взгляд снова направлен снизу вверх. Например, на картине Франца Людвига Кателя [97] Франц Людвиг Катель (1778–1856) – немецкий художник, скульптор по дереву.
«Неаполитанский залив с продавцами фруктов» все внимание привлечено к стандартному для этого жанра мотиву, к неторопливой итальянской жизни – а Везувий расположился на заднем плане скорее по декоративным и топографическим причинам и играет роль печной трубы с уютным дымком. Такой сдвиг значения присутствует и на двух картинах, написанных на увитой виноградом террасе одного и того же дома в Сорренто. Первая – этюд Юлиуса Гельфта [98] Юлиус Гельфт (1818–1894) – немецкий художник-пейзажист.
, которого эффект вечернего солнца на колонне и тень от винограда на фасаде интересуют куда больше, чем Везувий на заднем плане (он даже прикрывает колонной дым вулкана). Вторая, написанная на той же террасе (что само по себе примечательно), – картина Карла Вильгельма Гётцлофа «Терраса дома в Неаполе» 1833 года. Она была написана за двенадцать лет до работы Гельфта, а у виноградника было тогда только два ствола – а вот водоотвод здания на заднем плане был таким же. Гётцлоф тоже совсем не интересуется Везувием, который почти скрыт в желтоватой дымке. Это жанровая картина, слева игривый разговор юноши и девушки, справа монах и молодая семья, по краям на переднем плане художник демонстрирует свое мастерство в области натюрморта. Гётцлоф как будто специально старается отвлечь внимание от Везувия. Икона этого жанра – картина Кателя «Окно в Неаполе», на которой искусство немецкого романтизма окончательно приручило природную катастрофу. В этой классической «картине с окном» Везувий – всего лишь точка оптической фиксации, он редуцирован до минимума, до эстетического сувенира.
Третий жанр – «геологический». Интересно, что тему, интересовавшую Гаккерта, подхватил в первую очередь Франц Людвиг Катель в своих этюдах с натуры. В акварели с кратером 1834 года художник придает этой теме особый оттенок – он пишет теневую сторону вулкана, лишенную всякой миловидности, это скудный, холодный ландшафт, который особенно сильно впечатляет на контрасте с его жанровыми картинами, написанными в тот же период. Не всякому туристу удавалось преодолеть это личное впечатление от Везувия. Например, видный представитель немецкого романтизма Людвиг Рихтер не оставил нам ни одного изображения Везувия. Он не сумел превратить в «картину» свои «геологические» впечатления – пример такой трансформации в свое время продемонстрировал Гёте, а затем в ней упражнялись еще два поколения. Людвиг Рихтер отправился на Везувий в апреле 1825 года, в обществе Гётцлофа, но в отличие от последнего он так и не стал поклонником вулкана. Он писал: «В обществе Гётцлофа и нескольких швейцарских художников я совершил восхождение на Везувий. Мы переночевали у отшельника и насладились там роскошным закатом. В два часа утра мы отправились по потрескавшейся лаве к подножию пепельного конуса. Подошвы ботинок обуглились, стоило погрузить палку на несколько секунд в этот пепел, как она начинала дымиться. В кратере из многочисленных трещин шел дым. Но довольно быстро сернистые испарения и холод согнали нас вниз». Это называется отрезвлением. Так что у нас нет ни одной картины Везувия Людвига Рихтера – ему больше нравилось вспоминать образ «роскошного заката», которым он наслаждался на горе. А Карл Густав Карус с самого начала держался на безопасной дистанции. Три года спустя, 14 мая 1828 года, он записал в своем дневнике: «Мы переплыли на маленькой барке к скале, и там перед нами открылся коридор, заполненный водой, с естественными сводами и специально расширенный, и мы проплыли по нему. Там были очаровательные световые эффекты, красивые виды через просвет на Неаполь и Везувий, это производило необычайное впечатление». То есть и Карус тоже считает: если найти хорошую рамку, в данном случае это скалистые своды напротив вулкана, то тогда Везувий, сведенный к силуэту в «просвете», станет мотивом для романтической картины с окном.
Практики восприятия Везувия переживают удивительную эволюцию на пути от Гёте до Гётцлофа. Но бегство в эстетику, превращение настоящего в «картинку», которое открыл Гёте, остается излюбленным подходом. Соответствующим образом меняются и позиции наблюдателей в картине: от туристов-ученых, охлаждающих свои эмоции рядом с потоками лавы с помощью дискуссий о геологии, к показанным со спины романтикам у Даля и далее к равнодушным местным жителям на картинах Кателя и Гётцлофа. А автором самого остроумного художественного трюка с превращением вулкана в «эффектное явление», как выразился в 1832 году Фридрих фон Румор, был Эдуард Агрикола. В 1837 году он нарисовал «Ночное извержение Везувия», резко обозначив отношения между горой и реципиентом. Слева на переднем плане на дюне лежат два наблюдателя, растянувшись, как на диване, у них на виду вулкан изрыгает пламя, но он совсем ручной: развлечение для субботнего вечера.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: