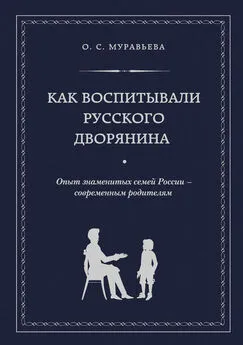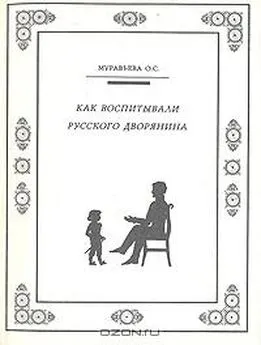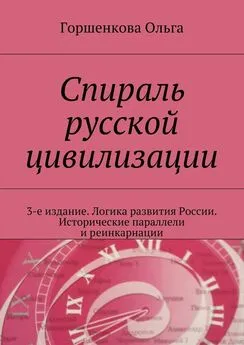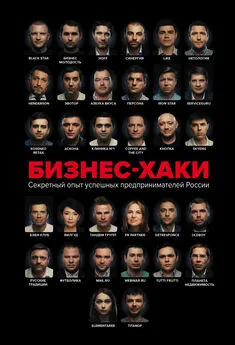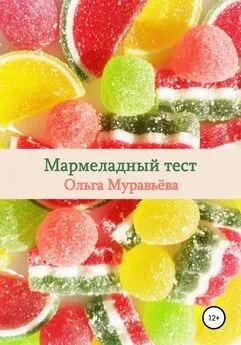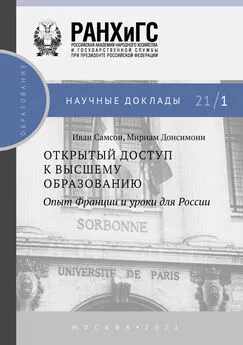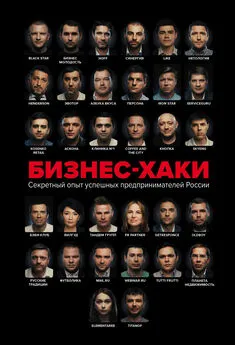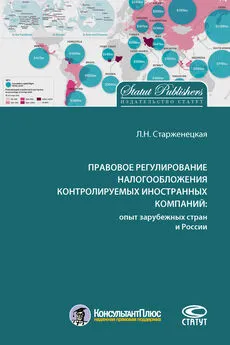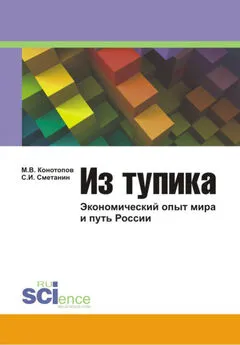Ольга Муравьева - Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России – современным родителям
- Название:Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России – современным родителям
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-6746
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Муравьева - Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России – современным родителям краткое содержание
Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых семей России – современным родителям - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Характерно, что традиционный тип отношений отстаивают именно женщины, более консервативные, прочнее связанные семейными узами. Сыновья более своевольны и независимы, они позволяют себе как бы проверять на прочность сложившиеся стереотипы поведения. Однако, как известно, тридцатилетний князь Андрей не осмелится ослушаться отца, приказавшего отложить на год его свадьбу с Наташей Ростовой; а мальчики Иртеньевы будут учтивы и почтительны с нелюбимой мачехой. Открытое, демонстративное неподчинение воле родителей в дворянском обществе воспринималось как скандал.
Даже если приведенные примеры реально не являлись общей нормой поведения, они помогают нам уяснить, что вкладывалось в понятие нормы. Заметим, что эта норма делала запретным открытое проявление неуважения к родителям даже при отсутствии у детей истинной привязанности к ним.
Пушкин, например, имел основания для критического отношения к своим родителям и никогда не был к ним по-настоящему близок. При этом он пожаловался на несправедливость отца, кажется, только один раз, в письме к Жуковскому; ни одного плохого слова или поступка по отношению к родителям он не допустил. Помимо личных нравственных качеств здесь, видимо, сыграло свою роль и твердое представление о том, что иное поведение было бы недопустимо и просто неприлично.
Принятые в обществе поведенческие стереотипы оказывали заметное влияние на поведение конкретных людей, порой заставляя их идти наперекор своей натуре.
С. В. Ковалевская в «Воспоминаниях детства» пишет: «В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом; он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами являлась необычайная нежность и мягкость; никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он. Мы решительно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здоровы, он придерживался того правила, что «мужчина должен быть суров», и потому был очень скуп на ласки».
В результате генералу В. В. Крюковскому, человеку по натуре, видимо, мягкому и ласковому, удавалось успешно играть роль «сурового отца»: самым тяжким наказанием для его дочери было приказание пойти к отцу и самой рассказать ему о своей провинности.
Насколько оправданным было такое поведение отца — особый вопрос. Искать на него ответ допустимо лишь в пределах системы ценностей дворянского общества.
Отношение к детям в дворянской семье с сегодняшних позиций может показаться излишне строгим, даже жестким. Но эту строгость не нужно принимать за недостаток любви. Высокий уровень требовательности к дворянскому ребенку определялся тем, что его воспитание было строго ориентировано на норму, зафиксированную в традиции, в дворянском кодексе чести, в правилах хорошего тона.
Хотя многие дети учились дома, день их был строго расписан, с неизменно ранним подъемом, уроками и разнообразными занятиями.
За соблюдением порядка неотступно следили гувернеры. «Родители не жалели денег и устроили нам целую гимназию, — вспоминал К. С. Станиславский. — С раннего утра и до позднего вечера один учитель сменял другого; в перерывах между классами умственная работа сменялась уроками фехтования, танцев, катанья на коньках и с гор, прогулками и разными физическими упражнениями».
Завтраки, обеды и ужины проходили в кругу всей семьи, всегда в определенные часы. Н. В. Давыдов вспоминает: «Хорошие манеры были обязательны; нарушение этикета, правил вежливости, внешнего почета к старшим не допускалось и наказывалось строго. Дети и подростки никогда не опаздывали к завтраку и обеду, за столом сидели смирно и корректно, не смея громко разговаривать и отказываться от какого-нибудь блюда. Это, впрочем, нисколько не мешало процветанию шалостей вроде тайной перестрелки хлебными шариками, толчков ногами и т. п.»
«— А вот не спросишь, — говорил маленький брат Наташе, — а вот не спросишь!
— Спрошу, — отвечала Наташа.
Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери.
— Мама! — прозвучал по всему столу ее детски-грудной голос.
— Что тебе? — спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой.
Разговор притих.
— Мама! какое пирожное будет? — еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи.
Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.
— Казак! — проговорила она с угрозой.
Большинство гостей смотрело на старших, не зная, как следует принять эту выходку.
— Вот я тебя! — сказала графиня.
— Мама! что, пирожное будет? — закричала Наташа уже смело и капризно-весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо».
Собственно, что предосудительного было в этой «выходке» двенадцатилетней Наташи? У себя дома, на собственных именинах она встала во время обеда и спросила у мамы: что будет на сладкое? Однако ее поступок считается неслыханной дерзостью, и только положение общей любимицы спасает девочку от наказания. Подчеркнем, что это происходит в доброй либеральной семье Ростовых, где детей обожают и балуют.
Еще один характерный пример, на этот раз из повести Л. Н. Толстого «Детство».
«Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и наконец решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке».
В этом случае даже гостей за столом нет, только мать и отец. Тем не менее столь скромная просьба требует от старшего брата немалой смелости: проявлять подобную инициативу детям не следовало, они просто подчинялись родительскому решению.
За сколько-нибудь серьезные проступки детей строго наказывали.
«Во многих вполне почтенных семьях розга применялась к детям младшего возраста, — вспоминает Н. В. Давыдов, — а затем была в ходу вся лестница обычных наказаний: без сладкого, без прогулки, ставление в угол и на колени, устранение от общей игры и т. п.» Но при этом он добавляет: «Если попадались хорошие наставники (что было нередко), то детям жилось, несмотря на воспрещение шуметь при старших, вмешиваться в их разговоры и приучение к порядку и хорошим манерам, легко и весело».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: