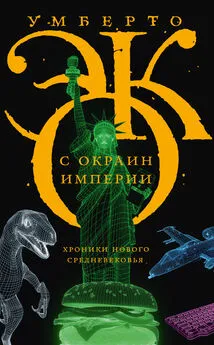Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике
- Название:Искусство и красота в средневековой эстетике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2003
- Город:СПб
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике краткое содержание
Книга рассчитана на широкий круг читателей, которым интересна средневековая эстетика и тема вечной красоты.
Искусство и красота в средневековой эстетике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Символическое умонастроение любопытным образом внедрялось в средневековый менталитет, в привычку средневекового человека действовать на основе генетического истолкования реальных процессов, в соответствии с цепью причин и следствий. Речь идет о так называемом коротком замыкании духа, о мысли, которая не ищет отношения между двумя вещами, отслеживая их причинно-следственные связи, но обнаруживает его внезапно, как отношение смысла и цели. Такое короткое замыкание происходит, например, тогда, когда белое, красное и зеленое воспринимаются как приятные, добрые цвета, а желтое и черное означают скорбь и покаяние или когда белое воспринимается как символ света и вечности, чистоты и девственности. Страус становится символом справедливости, потому что его перья, будучи совершенно одинаковой длины, навевают представление о единстве. Благодаря усвоению традиционного поверья о том, что пеликан кормит своих птенцов кусками мяса, которые он клювом отрывает от своей груди, эта птица становится символом Христа, отдающего свою кровь за человечество и превращающего свою плоть в евхаристическую пищу. Считалось, что единорога можно поймать, если, привлеченный девой, он упокоит свою голову на ее лоне; единорог вдвойне становится христологическим символом — как образ единородного Сына Божия, рожденного из чрева Марии; кроме того, однажды воспринятый как символ, он становится даже реальнее страуса и пеликана (ср.: Reau 1955, АА. VV. 1976, De Champeaux-Sterkx 1981).
Таким образом, символическое значение присваивается на основе определенного соответствия, схематичной аналогии, сущностного отношения.
Говоря о присвоении символического значения, Хёйзинга подчеркивает, что на самом деле в двух реалиях абстрагируются некие родственные свойства, которые и становятся предметом сопоставления. Находясь посреди своих гонителей, девственницы и мученики сияют, как белые и алые розы среди шипов, в окружении которых цветут; и для обоих видов сравниваемых образов общим является цвет (лепестки — кровь) и драматизм ситуации. Однако по нашему мнению, чтобы на абстрактном уровне была выработана гомологическая модель такого рода, прежде того должно произойти упомянутое короткое замыкание. В любом случае короткое замыкание или сущностная идентификация основываются на отношении сходства (которое также заключает в себе аналогию на более бытовом уровне: роза относится к шипам, как мученики к своим гонителям).
Роза, разумеется, совершенно не похожа на мученика, но удовольствие, получаемое от изобретения удачной метафоры (а аллегория есть не что иное, как цепь кодированных и выводимых друг из друга метафор), возникает как раз благодаря тому, что Псевдо-Дионисий (De coelesti hier. II) в свое время характеризовал как несоответствие символа символизируемой вещи.
Если бы вместо несоответствия мы имели одну лишь тождественность, тогда не существовало бы пропорционального отношения (х не относился бы к у как у к г). Кроме того, напоминает Дионисий, именно благодаря такому несоответствию и возникает сладостное усилие истолкования. Хорошо, что божественные вещи символизируются весьма неожиданными образами, такими, как образ льва, медведицы, пантеры; ведь именно причудливость символа делает его осязаемым и побуждает читателя (зрителя) к его истолкованию (De coelesti hier. II).
Таким образом, мы возвращаемся ко второму компоненту вселенского аллегоризма: постичь аллегорию означает постичь отношение соответствия и затем ощутить эстетическое наслаждение от этого соответствия, которое включает в себя и усилие истолкования. Усилие это вполне реально, поскольку текст всегда говорит нечто отличное от того, что может показаться на первый взгляд: Aliud dicitur, aliud demonstratur (говорится одно, а показывается другое).
Средневековый человек зачарован этим принципом. Беда поясняет, что аллегории оттачивают дух, оживляют форму выражения, украшают стиль. Только не надо забывать, что он все-таки присущ средневековому человеку и представляет собой один из основополагающих типов конкретизации его потребности в эстетическом. И действительно, именно бессознательная потребность в пропорции заставляет объединять естественное со сверхъестественным в игре непрестанных соотношений. В символической вселенной каждая вещь находится на своем месте, потому что все соответствует друг другу, все всегда сходится, гармоническое отношение приводит к тому, что змея, например, может символизировать такую добродетель, как благоразумие, а полифоническая перекличка отсылок и знаков оказывается столь сложной, что та же самая змея под другим углом зрения может символизировать сатану. Та же самая сверхъестественная реальность, каковой оказываются Христос и его Божественная природа, может быть символизирована многочисленными и многообразными созданиями, пребывающими в самых разных местах: на небесах, в горах, среди полей, в лесу, на море — агнец, голубка, павлин, баран, гриф, петух, рысь, пальма, гроздь винограда. Полифония мысли такова, что «в любом размышлении, словно в калейдоскопе, из беспорядочной массы частиц складывается прекрасная и симметричная фигура» (Хёйзинга, ор. cit. с. 226).
6.2. Неразличение символизма и аллегоризма
Об аллегорическом истолковании говорили и до возникновения патристической традиции: греки аллегорически толковали Гомера; в кругах стоиков сформировалась традиция аллегорического истолкования, стремящаяся усматривать в классическом эпосе мифологизированную картину естественного мира; кроме того, существует аллегорическая экзегезаеврейской Торы, а в I в. Филон Александрийский предпринял аллегорическое прочтение Ветхого Завета. Иными словами, мысль о том, что поэтический или религиозный текст основываются на принципе, согласно которому aliud dicitur, aliud demonstratur, довольно стара; и обычно это явление именуется то аллегоризмом, то символизмом. В современной западной традиции принято проводить различие между первым и вторым. Между тем это разграничение возникло довольно поздно: вплоть до XVIII в. оба термина в значительной мере остаются синонимами, каковыми они являлись и для средневековой традиции. Различие начинает проводиться с приходом романтизма, во всяком случае, с появлением знаменитых афоризмов Гёте (Maximen und Reflectionen, Werke, Leipzig, 1926).
«Аллегория превращает явление в понятие и понятие в образ, но так, что понятие всегда очерчивается и полностью охватывается этим образом, выделяется им и выражается через него» (1. 112). «Символ превращает явление в идею и идею в образ, но так, что идея, запечатленная в образе, навсегда остается бесконечно действенной и недостижимой, и, даже будучи выражена на всех языках, она все же остается невыразимой» (1. 113).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
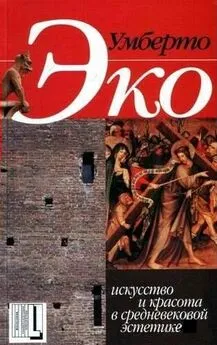



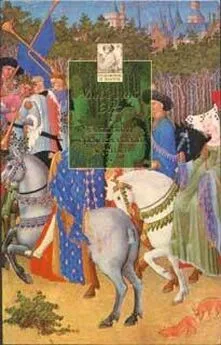


![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)