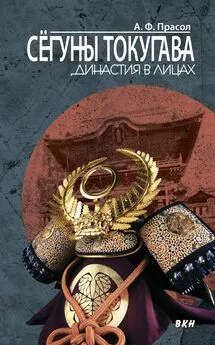Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава
- Название:От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель: CORPUS
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-43462-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Прасол - От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава краткое содержание
О том интереснейшем времени рассказывает ученый, проживший более двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению ее истории, культуры и языка; автор нескольких книг, в том числе: “Япония: лики времени” (шорт-лист премии “Просветитель”, 2010 г.)
Для широкого круга читателей.
От Эдо до Токио и обратно. Культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В нагая жили в основном рядовые самураи и горожане-разночинцы. Первые селились в строениях, расположенных по периметру вокруг резиденции хозяина, удельного князя или хатамото. Во внутренний двор такого барака можно было попасть через единственный охраняемый вход.
В гражданском нагая жили: а) владельцы недвижимости (они занимали лучшие комнаты с отдельным выходом на улицу); б) арендаторы торговых помещений — лавок на первом этаже в торце барака, также с выходом на улицу; в) беднота, арендовавшая жилье на поденной основе (комнаты, выходящие во внутренний двор).
Коммунальное жилье соответствовало традиционным представлениям японцев о том, каким оно должно быть. Сами японцы описывают их так:
Японский дом чрезвычайно прост. Сложил постель, убрал его в нишу — и комната опустела. Внутренние помещения разделены перегородками, окна — от пола до потолка, поэтому габаритную мебель не поставишь. Если оглядеться по сторонам, ничто не препятствует взгляду. Ты один в середине пространства. Это и есть специфическое ощущение японского жилища [Канно, 2008].
Считается, что такая пустынно-умиротворяющая обстановка успокаивает нервы и помогает справиться с ежедневным стрессом. Натуральные материалы, бумага и дерево, окружающие японца в традиционном жилище, тоже лечат его внимательную к деталям душу. С появлением более прочных материалов строительная индустрия нанесла этой душе чувствительный удар, но она сопротивляется. Поэтому хотя ограждения или скамейки в общественных парках сейчас делают из бетона, их маскируют под деревянные, и даже годичные кольца на этих якобы деревянных пеньках японцы не забывают нарисовать. А веревочки, протянутые вдоль тропинок между столбиками для ограждения, есть чистый нейлон, прочный и долговечный, но по виду — один к одному старая добрая пенька.
В сегодняшних японских домах и квартирах классически пустынный интерьер сохраняется только в так называемых “японских комнатах” (васицу) с соломенными циновками на полу. Они традиционно пусты, в то время как все остальное пространство занято вещами. Причем в современном жилье число японских комнат неуклонно сокращается. Абсолютного минимума оно достигло в многоквартирных домах — одна комната на квартиру. В более просторных домах их может быть две, даже три, но это уже редкость. Поэтому можно сказать, что западная планировка жилья сегодня ассоциируется у японцев с достатком и обилием вещей.
Но вернемся в коммунальную комнату XVIII века. Она была тесной. Из-за частых пожаров статистики по столичному жилому фонду эпохи Токугава почти не сохранилось, она появилась только в годы Мэйдзи. Из справочника 1879 года следует, что в Токио было 128638 жилых строений, в которых проживал 825191 человек. Простым делением получаем 6,4 жильца на одно строение. Документы, зафиксировавшие ущерб от пожаров и ввод в эксплуатацию новых построек, дают представление о средней площади дома — менее 13 цубо, то есть 42 м 2[Оги, 1983]. Это около 6,5 м 2на человека, что соответствует воспоминаниям старожилов. Это цифры 1879 года. Понятно, что двумя столетиями раньше условия не были комфортнее.
Комнаты в нагая (8-10 м 2) имели земляной пол. Окна, а с ними естественное освещение и вентиляция, отсутствовали. Тесно, но зато дешево, и оплата посуточная, как на постоялом дворе — бедноте удобно. Были и совсем уж дешевые комнатки (мунэвари нагая) для самых неприхотливых — вполовину стандартной площади (4–5 м 2) и втрое дешевле.
Теснота будила фантазию. Чтобы сэкономить место, утварь и инструменты развешивали на стенах. Европейские стулья, столы, кровати не вписывались в японский быт по той же причине — не хватало места, да и возить их с собой при частых переездах было накладно. (Василий Головнин отмечал, что “мебелей японцы никаких не имеют”.) Так что токугавские горожане обходились минимумом вещей — причем раскладных и легко переносимых с места на место: постель (футон) на день сворачивали в рулон и складывали в углу комнаты. Или помещали в подвешенную к потолку сетку, чтобы не занимать дефицитную площадь. Одежду в шкафах тоже не хранили — заворачивали в платок фуросики и клали на свернутую постель. Привычных сегодня удобных встроенных шкафов (осиирэ), куда можно много чего положить, тогда еще не было.
Одеялами укрывались только люди состоятельные, а остальные надевали на ночь подбитые ватой халаты ( каимаки) и заворачивались в них как в одеяло; под голову клали цилиндрической формы валик-подушку. У нее был один минус — затянутые в тугой узел волосы ночью рассыпались, поэтому под шею часто подкладывали деревянный брусок или ящичек, оставлявший голову на весу; так сложную причёску сохраняли до утра. Как по утрам чувствовала себя шея, хроники не сообщают.
Чтобы подать ужин, нужно было принести маленький стол на низких ножках (его хранили в кладовке или в комнате вертикально у стены). В больших семьях ели по очереди. Убрав стол, клали на его место футон. Удивлявший иностранцев японский бытовой аскетизм возник не сам по себе, а под суровым влиянием жилищных условий. Жильцы тесных комнат на первых этажах работали и мечтали разжиться деньгами, чтобы переехать на второй этаж. В столице это был уже небольшой жизненный успех.
Специальных кухонных помещений в бараках не было. Пищу готовили на огне перед общим входом, а овощи и посуду мыли в специальной кадке у колодца. Продукты хранить было негде. Их и не хранили: торговцы-разносчики каждый день обходили барачные кварталы, продавая всякую снедь. Еды у них покупали на один день, поэтому работа у торговцев была всегда. Дома обитатели бараков только ночевали, а день проводили на улице, работая и участвуя в многочисленных публичных мероприятиях.
В бараках жили в основном люди одинокие. Супружеские пары встречались редко, семьи с детьми и того реже — это видно по гравюрам. Столичные расценки на жилье, провиант и другие товары были самыми высокими в стране. Растить здесь детей было непросто, и многие бедняки проживали жизнь, не оставляя потомства. В средневековой Японии семейная жизнь считалась своего рода роскошью, доступной только людям более или менее успешным. У простолюдинов на этот счет писаных правил не было, а низкоранговым самураям кодекс бусидо прямо запрещал обзаводиться женой и детьми: содержание семьи требовало не только определенного уровня дохода, но и хлопот, а это могло помешать исполнению воинского долга. “Наставление вступающему на Путь воина” гласило: “Для человека низкого ранга является большой ошибкой иметь жену и детей, если в случае войны он не сможет содержать даже одного оруженосца” [Дайдодзи, 1999].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







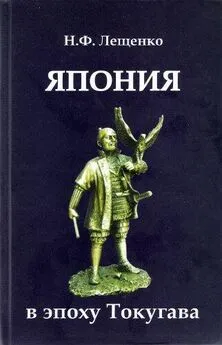
![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/1143862/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah.webp)