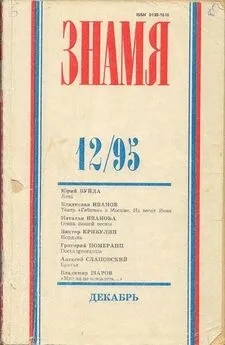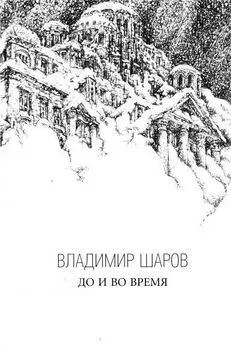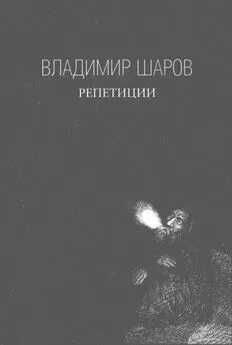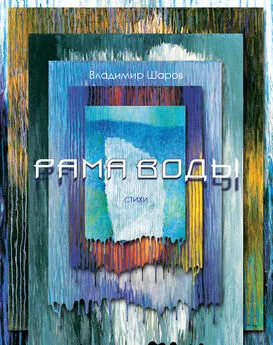Марк Липовецкий - Владимир Шаров: По ту сторону истории
- Название:Владимир Шаров: По ту сторону истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813935
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Липовецкий - Владимир Шаров: По ту сторону истории краткое содержание
Владимир Шаров: По ту сторону истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Естественно, ни кинематограф, ни актуальное искусство не справляются с духовным масштабом происходящих изменений: они еще инфантильны, с трудом вмещают сложное содержание. Впрочем, не нужно ставить перед ребенком невыполнимых задач – фрустрация плохой педагог. Древние художественные языки – литература, музыка, театр, танец – выглядят в этом контексте более убедительно. Но в каком-то смысле им труднее – приходится бросать вызов великим предшественникам, переступать через комплекс неполноценности. Глубоко верна мысль Ахматовой: сохранять традицию – значит успешно похоронить ее; традицию можно только подхватить и решительно, бодрым шагом идти дальше, туда, где ждет неизвестно что. В сущности, А. А. говорит об изменчивости, которая есть главный принцип всего живого. А вот еще одна цитата, из Томази ди Лампедуза: «Если мы хотим, чтобы все осталось по-прежнему, все должно измениться».
В конце 1990‐х наш общий друг, режиссер Дима Брусникин, задумал экранизацию романа «Репетиции». Внезапный, необъяснимый, не спровоцированный революцией, или войной, или серьезными внешними причинами распад СССР вызвал шок и апокалиптические настроения в обществе. Мы думали, у жизни есть хоть какое-то основание, а выяснилось, что его нет. Все может рухнуть в любой момент.
Советский Союз «слинял в три дня», как в начале ХX века империя Романовых. Василий Розанов мог бы хмыкнуть: «это уже не смешно». Роман Шарова о новом Иерусалиме и об ожидании русскими Второго пришествия Иисуса Христа удивительным образом совпал с этими настроениями. С огромным трудом Дима нашел инвестора – российское кино тогда дышало на ладан, как и вся экономика, цена нефти была невысокой. Но существовала одна лазейка: бизнесмены могли списывать с налогов деньги, вложенные в кинопроизводство. Для крупного бизнеса это была возможность легально уводить от налогов огромные суммы. Бюджеты фильмов и сериалов завышались в десятки раз. Например, списывали 30 миллионов долларов (по западным меркам немного), а кино снимали всего-то за три.
Пока шли переговоры о съемках «Репетиций», пока Володя и Дима обдумывали и обсуждали сценарий, закон отменили. Ходили слухи, что его отмену лоббировал лично Никита Михалков, избавлявшийся таким способом от конкурентов. Проект завис, потенциальный инвестор слился, «Репетиции» не превратились в фильм, но остались, на мой вкус, одним из лучших романов своего времени. В этом грустном сюжете о несостоявшемся соавторстве есть еще одна странность: Дима ушел из жизни 9 августа 2018 года, а Володя через восемь дней, 17 августа.
Излюбленный композиционный прием в прозе Шарова – матрешка. Этот прием существует уже в античной версии плутовского романа: история внутри истории, а в ней другая история, рассказчиком может оказаться любой случайный персонаж. И в этот момент он перестает быть случайным. В романах Шарова звучит целый хор голосов, десятки героев толпятся в каждой комнате, в каждой главе этого дома, но их голоса неотличимы от голоса автора. Это сплошной монолог, его по ролям читают актеры, пытаясь создать иллюзию спора, разных позиций, но я понимаю, что это гудит тот же синкрезис.
Судьбы плетутся причудливо, однако следить интересно за мыслями автора. Кто из героев, когда и зачем говорит – это неважно, важно, чтó говорится. Но кто этот автор? – вот в чем вопрос. Я сомневаюсь, что это Владимир Шаров. В этой прозе я слышу голос корней, переплетенных с костями, крик коллективной Психеи, бессознательный хор из подполья, голос Тени (в терминологии Юнга).
Во времена нашей юности одним из самых влиятельных авторов был Михаил Бахтин с его главными книгами «Франсуа Рабле» и «Поэтика Достоевского». Бахтинская концепция карнавальной культуры стала предтечей русского постмодернизма. Поставить обыденность вверх тормашками, опрокинуть привычную иерархию, поменять полюса местами, поднять на смех сакральное право царей и их небесных патронов, де/мистифицировать миф, любую идеологию – эта древняя традиция была для Шарова мощным источником вдохновения. Чтобы коллективная Тень заговорила, завыла, забормотала, требуется трикстер, смеховая культура не может обойтись без трюкача, потому что именно он отменяет ветхие табу, освобождая бессознательный комплекс от груза условностей.
В книгах Шарова трикстеры буквально кишат, как лосось во время нереста. В последнем романе «Царство Агамемнона» этих самозванцев целая дивизия. Да и сам писатель тут выступает как самозванец – роман написан кем-то другим, неким Жестовским. Он объясняет вполне откровенно: «В удавшемся романе, конечно, не поют в унисон… но и какофонии не место, лучше – хуже, но все поддерживают, вторят друг другу… Чтобы не мешать, не забивать остальных… я свой голос намеренно сделал слабым и незавидным – тенор небольшого диапазона и небольшой силы, иногда даже дребезжит». Кстати, у трикстера, как у лосося, тоже отсутствует ген старения. Наша подруга Таня Дашевская так говорила: «Шаров – это чудо природы, он заморожен, все стареют, а он не меняется».
Володя рассказывал: во времена его юности к нему часто бросались полубезумные люди: одни падали перед ним на колени, пытались целовать ему руки, называя Христом, другие осеняли себя крестным знамением, плевались и узнавали в нем царя Иоанна Грозного (точнее, его реинкарнацию). Случались эти выразительные эпизоды где угодно: среди бела дня на людной улице, в метрополитене имени Лазаря Кагановича. Особенно часто почему-то в Воронеже, куда Володя приезжал дважды в год сдавать экзамены в университете.
Однажды во время археологической экспедиции в среднеазиатской пустыне к нему привязался сектант-пятидесятник, Володя долго с ним беседовал о религии, о жизни и смерти, и под утро пятидесятник предложил Шарову возглавить их общину – они как раз искали нового пресвитера, их прежний епископ скончался. Это я вот к чему: задолго до того, как Шаров вступил на свое писательское поприще, люди угадывали в нем эту способность – быть зеркалом коллективного бессознательного, отражать Тень и выходящих из Тени призраков прошлого. «Прощай и помни обо мне», – говорит отец сыну, а сын, услышав свое, отвечает: «Нет, извини, я не прощаю».
Вскоре после премьеры «Вишневого сада» (в 2015‐м я поставил эту пьесу в Театре им. Пушкина) Володя, будучи у нас в гостях в Зачатьевском переулке, прочитал вслух большой кусок из романа «Мне ли не пожалеть…», в котором судьбы чеховских персонажей прочерчены дальше, за рубикон Октябрьской революции.
Читал он в своей обычной манере, нараспев, как обычно читают стихи и Псалтирь, читал прицельно и, как мне показалось, с каким-то подспудным вопросом: сходство трактовок и жизненных траекторий в Володином тексте и в нашем спектакле было разительным. Но дело в том, что этот роман я еще не успел прочитать. Сидел я и слушал, и в голове у меня проносились странные мысли. Наши связи друг с другом таинственны, они не только в корнях или в кронах. Возможно, само наше автономное существование чистой воды иллюзия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: