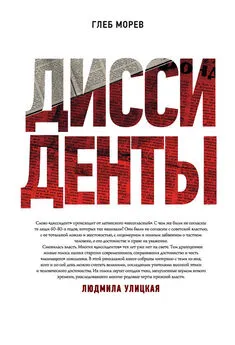Глеб Морев - Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский
- Название:Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Год:2020
- Город:М.
- ISBN:978-5-98379-250-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Морев - Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский краткое содержание
Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для Мандельштама оказывается здесь принципиально важным их со Сталиным «знанье друг о друге», и когда во время приезда в Воронеж в феврале 1936 года Ахматова пересказывает Надежде Яковлевне «со слов Пильняка» слух о том, «что Сталин, принимая киношников, досадовал на Б. Пастернака за „дружбу“ с О.Э.» [140], Мандельштам, узнав об этом, называет этот рассказ «отравленной конфеткой» – подчеркивая его лестную для него, несмотря всю неоднозначность, основу. Эта воображаемая персональная связь явилась одним из оснований для полного пересмотра отношения Мандельштама к советской действительности и лично к Сталину, кульминацией которого стало написание «палинодии сталинской эпиграммы» [141]– «Оды» 1937 года. М.Л. Гаспаров, описавший этот поворот в поэтике Мандельштама, справедливо отмечает, что в период после 1935 года «отношение между поэтом и правителем строится Мандельштамом по хорошо известному историческому образцу – отношению между Овидием и Августом. Овидий тоже виноват <���…> тоже безоговорочно признает свою вину, тоже сослан и тоже надеется на искупление вины и воссоединение со своим судьей и карателем в мире единой для них культуры» [142]. Это (ложное) ощущение единства культурного пространства основывается для Мандельштама, прежде всего, на восприятии им Сталина как своего читателя, на ощущении пусть драматического и болезненного, но прямого – через поэтический текст и реакцию на него – диалога между ними. Именно эти установки Мандельштама заставляли его настаивать на «зачете» властью (в лице Союза писателей) его новой поэтической работы в ссылке как «искупительного стажа» [143]и привели в итоге к трагической развязке 1938 года. Мнимый, существовавший лишь в сознании поэта, диалог со Сталиным вокруг инвективы против него – еще один штрих, усугубляющий общую трагедию судьбы Мандельштама: «когда человека убивают его враги, это страшно, а когда те, кого он чувствует своими друзьями, это еще страшнее» [144].
Через полтора года после высылки Мандельштама его антисталинское стихотворение вновь оказалось занесено в протокол допроса – у же в стенах ленинградского НКВД.
В конце мая 1935 года ленинградские чекисты получили сведения о том, что «в квартире [Н.Н.] Пунина обычно декламируются контрреволюционные стихи поэта Мандельштама о тов. Сталине (Мандельштам сослан)» [145]. 22 октября при аресте и обыске у Н.Н. Пунина в Фонтанном доме в списке изъятого отдельно значатся «Книжки О. Мандельштама – 3 [штуки]» [146](книги других современных авторов изъяты не были). Предметом особого внимания стало стихотворение Мандельштама и на допросах. Пунин и арестованный одновременно с ним Л.Н. Гумилев [147]признают, что неоднократно читали вслух стихи Мандельштама, что «читала их Анна Андреевна Ахматова после своего возвращения из Москвы, совпавшего с арестом Мандельштама, читала она их раза два или три, когда были я [Пунин], Гумилев и сама Ахматова, читала их при [Л.Я.] Гинзбург».
1 ноября начальник УНКВД по Ленинградской области Л.М. Заковский обратился к Ягоде за распоряжением «о немедленном аресте Ахматовой» [148].
2 ноября 1935 года [149]Лев Гумилев, обвиняющийся вместе с Пуниным и несколькими своими товарищами в террористических намерениях, «по приказанию следователя» по памяти (с пропусками и искажениями) записывает для следствия текст Мандельштама.
3 ноября во исполнение полученной из Москвы «директивы НКВД СССР» Пунин и Лев Гумилев были освобождены.
Решение об освобождении было оформлено Ягодой после получения им резолюции Сталина на письме Ахматовой к нему, датированном той же пятницей, 1 ноября 1935 года, когда Заковский запросил у Москвы санкцию на ее арест. Письмо Ахматовой и написанное одновременно с ним письмо Пастернака были с помощью Поскребышева переданы Сталину, по-видимому, в субботу, 2 ноября. Резолюция Сталина гласила: «т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин». В воскресенье, 3 ноября, машинописная копия письма Ахматовой, изготовленная в секретариате Сталина, с его карандашной резолюцией (и с подписью ознакомленного с ней Молотова) вместе с подлинниками писем Ахматовой и Пастернака была доставлена в секретариат Ягоды в НКВД. В 22 часа того же дня Пунин и Гумилев были освобождены в Ленинграде [150]. Утром Поскребышев сообщил об этом телефонным звонком в квартиру Пастернака на Волхонке – к уда в июне 1934-го звонил Сталин.
Бюрократический тайминг чрезвычайно важен для нашего понимания механизма принятия Сталиным решения об освобождении Пунина и Гумилева. Полученные (как и письмо Бухарина) по прямому каналу, письма Ахматовой и Пастернака были тем материалом, на основе которого Сталин делал выводы. Приказывая освободить Пунина и Гумилева, Сталин не стал требовать от НКВД дополнительных материалов по их делу и руководствовался – как он делал это всегда (и ранее, в случае с пересмотром приговора Мандельштаму, и позднее, в последовавшем через полгода и также связанном с именем Пастернака эпизоде со свертыванием антиформалистической кампании [151]) – исключительно соображениями сиюминутной политической целесообразности [152]. Как справедливо сформулировал в свое время Вяч. Вс. Иванов: «Других, в том числе и писателей, Сталин мерил на свой политический аршин» [153].
В отличие от дела Мандельштама, прямые просьбы Ахматовой и Пастернака были оформлены абсолютно «форматно», что позволяло принять решение стандартным способом накладывания «итоговой» резолюции на относящийся к ней документ. В этом случае – о пять же в отличие от дела 1934 года – объем информации, полученной Сталиным из писем, был достаточен и не требовал от него дополнительных движений вроде звонка Пастернаку.
4 ноября дело Пунина, Гумилева и других постановлением начальника 4-го отделения Секретно-политического отдела Ленинградского управления госбезопасности В.П. Штукатурова было сдано в архив. Стихи Мандельштама вновь остались невостребованными в Кремле.
Обращенная к Сталину поэтическая инвектива «Мы живем, под собою не чуя страны…», вокруг которой и было выстроено дело Мандельштама 1934 года, традиционно считается одним из центральных примеров «заочного» общения поэта и властелина. Однако в истории русской литературы – от Пушкина [154]до Бродского – коммуникация между Поэтом и Царем всегда отличалась досадной односторонностью.
2. «Кто сказал „а“»
Выезд Иосифа Бродского из СССР и проблемы социокультурного самоопределения поэта
Утро воскресенья, 4 июня 1972 года, в Ленинграде было не по-летнему прохладным – о коло тринадцати градусов. На ступенях перед главным входом в международный терминал аэропорта, который через год получит имя «Пулково», на старом кожаном чемодане сидел, ожидая очереди на таможенный досмотр, мужчина, одетый тепло, по погоде – плотный коричневый вельветовый пиджак, красная водолазка, джинсы. В кармане пиджака лежал билет на рейс «Аэрофлота» Ленинград – Будапешт. Из Будапешта после пятичасовой пересадки самолет Austrian Airlines должен был перенести его в Вену. Паспорта у него не было. Вместо паспорта была действительная до 5 июня 1972 года советская выездная виза М № 208098 на постоянное жительство в Израиль на имя Бродского Иосифа Александровича, 1940 года рождения. Пунктом выезда значился «Ленинград А/П» – ленинградский аэропорт. Виза была выдана ему в день тридцатидвухлетия – 24 мая. Получая ее в городском Отделе виз и регистраций МВД СССР (ОВИРе), Бродский сказал: «Спасибо». «Не за что», – ответили ему. «Действительно, не за что», – резюмировал поэт [155].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: