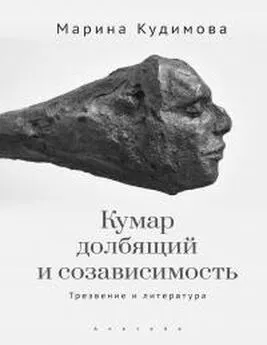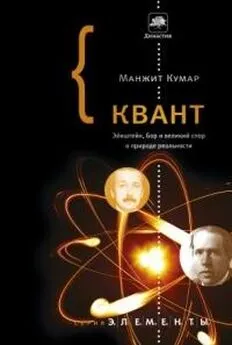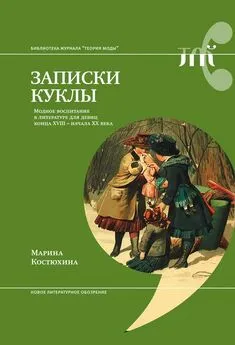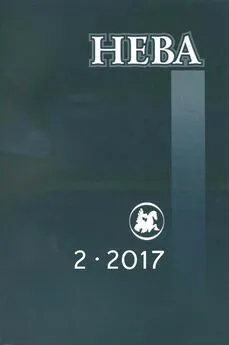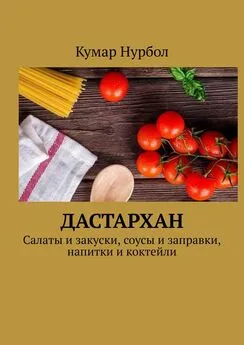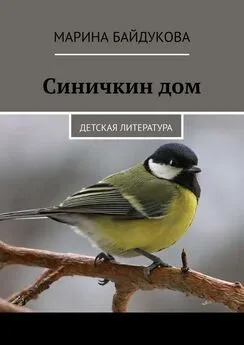Марина Кудимова - Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература
- Название:Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Кудимова - Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература краткое содержание
Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бог Поэзии, принц Нищета,
О не все ж без конца выбирать!
Слово — жить — бумеранг — умирать.
Это Игорь Бухбиндер, ставший одним из неповторимых голосов азиатско-русского андеграунда 70-х и одной из ярчайших поэтических звезд над Киргизским Алатау. Михаил Озмитель, до сих пор не покинувший этих мест, писал о друге: «Ему надо было сказать: «Игорь, мы тебя не печатаем, потому что ты политически неблагонадежен». Этого-то наши оппоненты сказать не могли, потому что сами себя числили по ведомству свободомыслящих, но не диссидентов. Поэтому прозвучало то, что, в конце концов, и должно было прозвучать, именно этого мы ждали и добивались: нас, а значит, и Игоря, стали обвинять в поэтической неграмотности!» Бухбиндер в своей недолгой творческой жизни, пока не умер в 83-м от астмы, недуга, словно символизирующего эпоху («мы бредим от удушья» у Высоцкого), тоже бился над разгадкой времени, меняющего химический состав:
Для чего я над временем горблюсь?
Сердце мучу и воду мучу́…
Пушкинское «они любить умеют только мертвых» при Брежневе и после, в пору генсекоцида, работало непоследовательно. Мертвых не любили, возможно, еще больше, чем живых. С живыми всегда можно как-то справиться. Правда, книга одного из немногих радостных и светлых поэтов антологии Руслана Галимова вышла тотчас после его смерти от острого лейкоза в 1982-м году. А вот посмертный диплом ЦК ВЛКСМ — уже на грани издевательства. Но тогдашние засидевшиеся в комсомольцах функционеры были еще и не на такое горазды. Их лукавство и иезуитская изворотливость границ не имели. Посмертная — первая на Родине — книга Владимира Высоцкого «Нерв» была снабжена такой аннотацией: «В сборник вошли произведения широко известные, а также публикующиеся впервые». Впору поставить смайлик с кубиками белоснежных зубов, не стискивай мышцы лица совсем другая гримаса. А ведь Высоцкий был не просто известнейшим в своем времени, но и благополучнейшим из поэтов уже фактом органичного вписывания в магнитофонную культуру, действительно «звучал из каждого окна», по выражению Валерия Золотухина. А хотел быть настоящим, не магнитофонным!
Если бы трагедия объяснялась медицински! Созидательный интенсив поэзии представленного времени был таков, что переутомление подкрадывалось незаметно и набрасывалось на жертву стремительно, вызывая депрессию с предсказуемым финалом. В прямом боестолкновении уйти с линии огня удается не всем. Да не все и хотят покинуть поле боя — иначе бы не было подвигов. Плюсуем сюда плохое питание и неистовое подпитывание жидкостью, оказывающей успокаивающее и подавляющее действие на центральную нервную систему.
Радости, ярости, горести дым
Так и ведет помереть молодым.
Это из стихотворения воронежца Сергея Попова, слава Богу, перескочившего бездну, в которую упали авторы антологии.
Книга — один из способов победить время. Видимо, поэтому новое исчисление вечности («книга недели», «книга месяца») так старательно, хотя пока и недостаточно успешно, сводит книгу на нет, лишая ее силы тяжести. Будем наивно надеяться, что очередному тому антологии, посвященной памяти рано ушедших поэтов, эта опасность не угрожает. Или такая угроза слишком слаба против нашей памяти.
Верлибру в панику. На чем строится борьба с силлабо-тоникой
Казалось бы, проблема, если она когда-нибудь и существовала, давно себя изжила. Достоевское «все позволено» развернулось в полную силу прежде всего в искусстве. А в литературе и подавно. Пишите как и что хотите, и непременно найдется издание (конкурс, премия), которому вы окажетесь интересны или нужны для каких-то таинственных маркетинговых целей. Отсутствие читателя давно никому не мешает и никого не смущает. Читатель превратился в этакого Гудвина великого и ужасного, голова которого торчит из одного угла, а слабый голос раздается из другого.
Тем не менее, есть один пункт, из-за которого в нашем стационаре время от времени возобновляется конфликт интересов, и пациент, объявивший себя Наполеоном, яростно оспаривает соседа по палате, утверждающего, что он — Навуходоносор. Этот обостряющийся при всякой перемене погоды диспут касается отнюдь не политической платформы, но поэтической формы. Верлибр и метрическое (квантитативное, изохронное) стихосложение силами своих приверженцев выволакивают друг друга «за волосья на двор» и чешут шпандырем доводов, невзирая на то, что поэтический двор сузился до размеров и функционала этого самого шпандыря — ременного кольца, которым сапожники крепят работу к колену в целях придержания.
Почему это происходит и есть ли средство успокоения страстей? Кто, кому и когда в последний раз мешал самовыразиться свободным нерифмованным стихом? Кого за подборку или книгу верлибров в последние (как и в предыдущие) десятилетия подвергли репрессиям или гражданской казни? Напротив! Фейсбучного бана или корпоративной оплеухи удостаиваются авторы совершенно традиционных регулярных текстов, как это недавно произошло в Израиле между двумя русскоязычными литераторами. Оба, как подорванные, пишут при сем в рифму.
Все это было бы смешно… Однако в периодическом возобновлении споров «традиционалистов» и «новаторов» кроется нечто, настолько более важное, чем формальная сторона, что говорить об этом приходится снова и снова. Верлибр не стал — и, уверена, никогда не станет — магистральной формой русского стиха. Даже в Серебряном веке, как справедливо отмечают М. Гаспаров и Н. Богомолов, верлибр не был массовым явлением. Самый известный русский верлибр принадлежит А. Крученых:
дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз
И то, что не свободным стихом написанные шедевры Блока, или не чувственные верлибры Цветаевой, или не глава ахматовского «Реквиема», а поэтическое юродство канувшего во тьму забвения будетлянина приобрело черты образца, весьма ярко характеризует особенности восприятия верлибра русским ухом и глазом. Разве что еще первые строки «Заклятия смехом» юного Велимира Хлебникова всплывают в памяти:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
И т. д.
В России поэзия всегда заключала в себе функцию запоминания. Математический гений — академик Колмогоров — говорил, что после прочтения стихов возникает желание немедленного повторения. Для этого, вне всякого сомнения, наилучшим образом и организована рифмометрическая композиционная поэзия. Верлибр к подобному не предназначен. Этот номер со свободным стихом если и проходит, то с усилием и внутренним сопротивлением. Даже «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе» или «Она пришла с мороза…» дальше первой строки запоминаются с большим скрипом. Это не делает хороший верлибр хуже, но заведомо отодвигает его на периферию русского поэтического мира. На Западе стихи не учат наизусть лет 150, поэтому и воцарение верлибра в ХХ столетии там никого не смущает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: