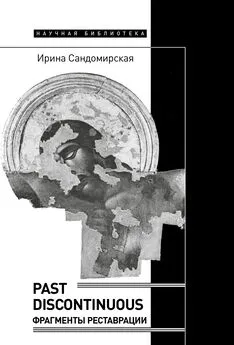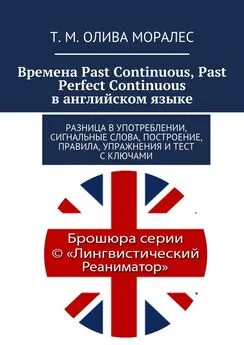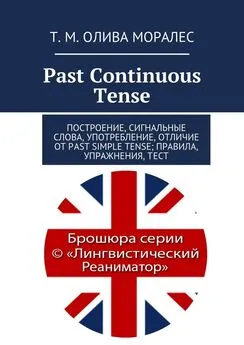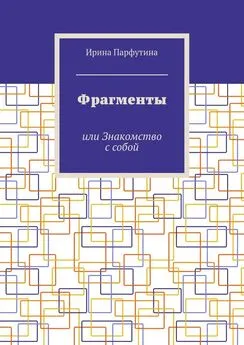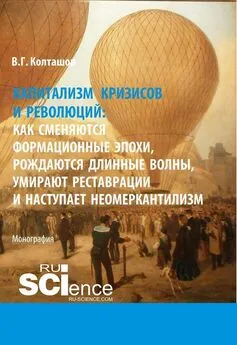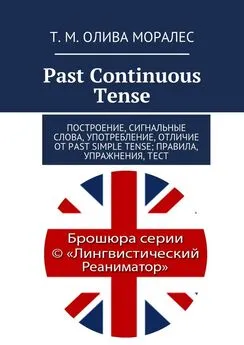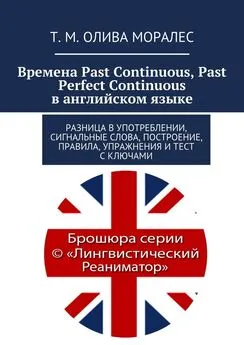Ирина Сандомирская - Past discontinuous. Фрагменты реставрации
- Название:Past discontinuous. Фрагменты реставрации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-2053-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Сандомирская - Past discontinuous. Фрагменты реставрации краткое содержание
Past discontinuous. Фрагменты реставрации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С точки зрения реставрационной практики это спор довольно отвлеченный. Как не бывает реставрации без консервирующего вмешательства – без укрепления структуры или «консервирующей хирургии», то есть удаления вредных воздействий и необратимых повреждений, так не бывает и проектов консервации, вполне свободных от необходимости реставрировать руину. Как можно заключить из дискуссии между Бобровым и Лелековым, разница здесь не в технике, а в идеологии. Историк Майлс Глендиннинг, автор замечательной книги об охране памятников и истории движения архитектурной консервации, указывает на три руководящие идеи, которыми это движение исторически объединялось на протяжении всей истории своего существования в Новое время и которые не меняли своего основополагающего значения до нашего времени, возникнув в зоне действия могучих исторических сил, охвативших Европу в XVIII веке и перешедших в новое качество в 1789 году. Это, во-первых, гранд-нарративы социального прогресса, Просвещения, национальной идентичности и исторического предназначения; во-вторых, дискурсы и риторики аутентичности; в-третьих, модернистское противопоставление старого как оппозиции новому и подлинника в противоположность копии и подделке [23] Glendinning M. The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation & Antiquity to Modernity. London; New York: Routledge, 2013. Р. 417–418.
.
По двум последним ключевым пунктам – о том, что считать старым, что считать новым, и о том, что есть оригинал, а что копия; что есть подлинник, а что фальшивка, – реставрация выступает антагонистом консервации в плане материальной реальности и практики, хотя обе принадлежат к области антимодернизационных риторик и идеологий. Случай отца исторической архитектурной реставрации, знаменитого Эжена Виолле-ле-Дюка – выдающийся пример сочетания исторического воображения с поисками идеальных и всеобщих корней в прошлом с изощренной строительной технологией для воссоздания этих самых древних начал [24] Bressani M. Architecture and the Historical Imagination: Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, 1814–1879. Farnham: Ashgate, 2014.
. С точки зрения реставрации «первоначальное состояние» артефакта – это воображаемое состояние предмета, каким он вышел из рук древнего художника, или здания, каким оно было создано строителями. Так понимаемое, оно, естественно, утеряно, но реставратор, используя художественную фантазию, исторические знания, знания старинной технологии и аналогию с подобными произведениями, имеет право вообразить это «первоначальное состояние» и воплотить его в реставрации в целостном виде – даже если в своей исторической реальности объект никогда в такой цельной форме не существовал и такого «первоначального вида» не имел. Правота реставратора – в реставрации Идеи [25] «Искусства не умирают. Их принципы остаются истинными на все времена, потому что люди всегда одни и те же». Этими словами Виолле-ле-Дюка на фронтисписе открывается английское издание его эссе «О реставрации» (1854) со знаменитым тезисом о реставрации как воссоздании Идеи: «Слово „реставрация“ и сама реставрация принадлежат Новому времени. Реставрировать постройку не значит сохранить, починить или перестроить ее; это значит воссоздать ее в состоянии целостности, которой, возможно, никогда не существовало – ни в один конкретный момент» (On Restoration, by E. Viollet-le-Duc, and a Notice on His Work in Connection with the Historical Monuments in France by Charles Wethered. London, 1875). От воссоздания Идеи в дальнейшем пошли концепции реставрации в соответствии с первоначальным замыслом, первоначальным обликом, первоначальным впечатлением и пр.; понимание «первоначальности» и умение ее «воссоздать» и составляли компетенцию реставратора; эта историцистская концепция в XIX веке сменила «антикварный» подход предыдущей эпохи, когда мастерство реставратора и соответственно стоимость отреставрированного произведения (живописного полотна) определялось умением мастера и знатока распознать и воссоздать «руку художника» или его «дух».
. Именно здесь лежит принципиальное различие между реставрацией и консервацией – антагонистами в смысле философии истории и этики в плане права на вмешательство в артефакт. «Первоначальным состоянием» в консервации считается то состояние предмета, в каком он был найден археологом; поскольку именно это состояние вещи и несет историческую информацию и ценно в качестве документа, консервация заключается в том, чтобы остановить дальнейшее разрушение, ничего не прибавляя и не домысливая. Понятно, что в чистом виде на практике ни та, ни другая повестка не реализуется, но факт того, что компромисс между эстетическим и историческим, экономическим и «антикварным» подходами на деле недостижим, объясняет для нас иначе никак рационально не объяснимые страсти, которые постоянно разыгрываются и в профессиональной среде, и в публике относительно легитимности той или иной реставрации.
Это принципиальное различие в понимании первоначальности отражается и на том, как определяется объект – исторический или художественный памятник, и на том, как определяется то, что именно в составе памятника считать старым, а что новым. С точки зрения консервации привнесенные для уточнения первоначального облика детали нельзя считать «старыми», поскольку они не имеют «старой» исторической материальности. С точки зрения реставрации эти детали могут считаться «старыми», даже если были сделаны вчера, потому что в них восстановлена, воспроизведена, воссоздана историческая структура оригинала или его исторический внешний вид, его Идея: не состав материала, но историчность реконструированного считается исторически достоверной.
Независимо от аргумента, апеллируя ли к исторической документальности или к эстетической достоверности, оба наших собеседника – реставратор и консерватор – представляли общую платформу, когда каждый со своей стороны высказался с критикой (псевдо)реставрации как копирования и создания подобий прошлого, которые сопровождаются риторикой возрождения и возвращения; как игнорирования автора и самого произведения, его исторической материальности, попрания прошедшего со стороны настоящего, принципа историзма – ради «чуда художественности» и «утоления эстетических капризов».
Путей к магическому вторичному воссозданию безупречно достоверного художественного или документального оригинала быть не может ‹…› Возможны только подобия, имитации, копии. Даже если средства массовой информации не без успеха выдают их за непререкаемые подлинники детски доверчивому общественному мнению [26] Лелеков Л. А. Об эстетических критериях в реставрации. С. 25.
.
«Воссоздание» – общий враг и для консервации, и для реставрации, но Бобров здесь имеет в виду конкретные послевоенные проекты «воссоздания», последовательным критиком которых он является: факсимильной реставрации, из которых самым крупным и широко распропагандированным стало воссоздание ленинградских пригородных дворцов [27] Я обсуждаю этот эпизод далее, в главах 8 и 9.
. В этом вопросе между ним и его противником Лелековым нет разногласий: подлинность дорога обоим, хотя понимают они ее по-разному; для обоих равно неприемлемы подражания, которые выдают себя за оригиналы. Воссоздание, пишет Бобров,
Интервал:
Закладка: