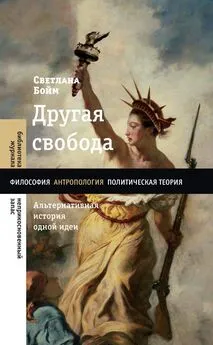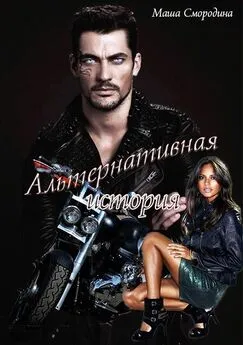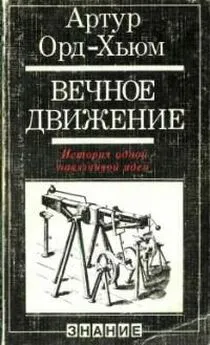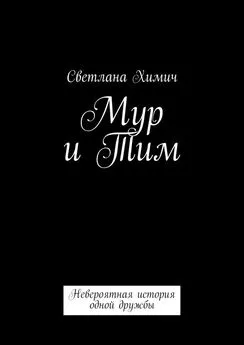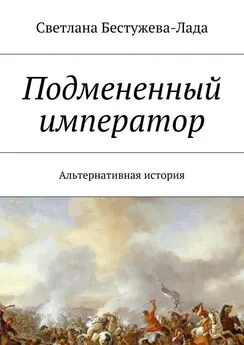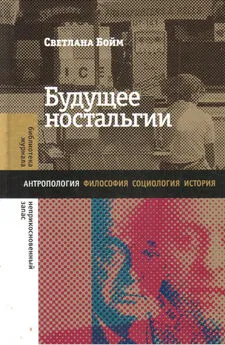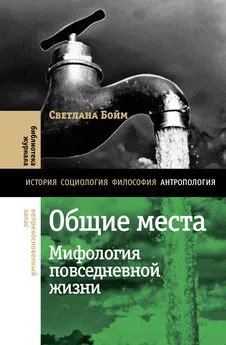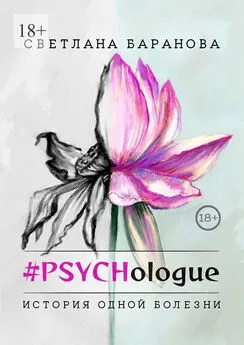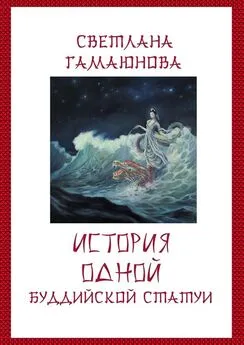Светлана Бойм - Другая свобода. Альтернативная история одной идеи
- Название:Другая свобода. Альтернативная история одной идеи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814734
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Бойм - Другая свобода. Альтернативная история одной идеи краткое содержание
Другая свобода. Альтернативная история одной идеи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
79
Десанктификация – нейтрализация обряда освящения. – Прим. пер.
80
Оптика представлялась Гоббсу явлением более значимым, нежели воображение, которое он изначально определял как «ослабленное ощущение», – так как оно включает в себя фантазию и разум. В своих поздних трудах Гоббс прославляет поэзию и создает автобиографическую поэму, – с целью поведать историю собственной жизни.
81
Здесь в оригинале используется слово «phantom», как, например, и в названии знаменитого романа Гастона Луи Альфреда Леру (Gaston Louis Alfred Leroux, 1868–1927) «Призрак оперы» («Le Fantôme de l’Opéra») (1909–1910). – Прим. пер.
82
Здесь в оригинальном англоязычном тексте игра слов: «engagement» – «estrangement». – Прим. пер.
83
Устами персонажа своего диалога Первого Дидро говорит: «Все виды чувствительности сошлись, чтобы достигнуть наибольшего эффекта, они приноравливаются друг к другу, то усиливаясь, то ослабевая, играют различными оттенками, чтобы слиться в единое целое. Да это просто смешно! А я стою на своем и говорю: „Крайняя чувствительность порождает посредственных актеров; посредственная чувствительность порождает толпы скверных актеров; полное отсутствие чувствительности создает величайших актеров“. Истоки слез актера находятся в его разуме; …слезы чувствительного человека закипают в глубине его сердца; душа чрезмерно тревожит голову чувствительного человека, голова актера вносит иногда кратковременное волнение в его душу; он плачет, как неверующий священник, проповедующий о страстях господних, как соблазнитель у ног женщины, которую не любит, но хочет обмануть, как нищий на улице или на паперти, который будет поносить вас, если потеряет надежду разжалобить, или же как куртизанка, которая, ничего не чувствуя, замирает в ваших объятиях». – Прим. пер.
84
Здесь имеет место своего рода обратная мимикрия: жизнь уподобляется театру – тихому озарению «актера, следующего природному дарованию», который стоит на пороге признания собственной искусственности. Дидро преподносит нам парадоксальную встречу в духе хиазма (от др.-греч. χιασμός – уподобленный букве «Х» – риторическая фигура, заключающаяся в крестообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных рядах слов. – Прим. пер. ) – тем временем человека остранения и преисполненного самообладания актера одолевает чувствительность, что же до «естественного человека», то он начинает восхвалять природу за то, что она живописна и выглядит как превосходный пейзаж. Ироничные пределы диалога – это именно те моменты «эксцесса», когда противоположности встречаются лицом к лицу, но лишь посредством искаженной параболической перипетии, создавая сложную оптику и избегая безжалостного разбивания хрупкого оптического стекла. Диалоги Дидро несут не только педагогическую функцию; они дают нам занятные срезы дореволюционной жизни. В какой-то момент персонажи Дидро – критики-парадоксалисты – вознамериваются отправиться в театр и превратиться в зрителей (вместо собеседников), но в зале театра нет больше свободных мест – поэтому они так и остаются в театре жизни. Они беседуют друг с другом, разговаривают сами с собой, грезят, хранят молчание, предаются моментам эмпатии и чувствительности, а затем – с юмором дезавуируют собственные эмоции. Вторя Локку и Гоббсу, Дидро проводит прямую аналогию между обществом и театром: «Спектакль подобен хорошо организованному обществу, где каждый жертвует своими правами для блага всех и всего целого. Кто же лучше определит меру этой жертвы? Энтузиаст? Фанатик? Конечно нет. В обществе это будет справедливый человек, на сцене – актер с холодной головой». Diderot. Paradox of an Actor. P. 114. См.: Peretz E. Identification with the Phantom; книга находится в процессе написания.
85
Этьен Гаспар Робертсон (Etienne Gaspard Robertson, 1763–1837) – выдающийся бельгийский и французский ученый, физик, иллюзионист, мастер сценических представлений в жанре фантасмагории. Его сценическим псевдонимом было имя Робертсон. Этьен Гаспар создал новую модификацию так называемого «волшебного фонаря» («Laterna magica»), известную как «фантаскоп» («phantascope»). Простейшие схемы анимации в сочетании с механическими тележками, церковными лампадами и реквизитом в виде скелетов, силуэтов волшебников и т. п. позволяли ему устраивать фантасмагории в помещениях монастырей и крипт. Темами для фантасмагорий служили мистические и политические сюжеты. Робертсон гастролировал со своими фантасмагориями и давал представления в разных городах и странах, в том числе в столице Российской империи Санкт-Петербурге. – Прим. пер.
86
Gunning T. Illusions Past and Future: The Phantasmagoria and Its Specters. http://www.MediaArtHistory.org, доклад для Первой международной конференции по истории искусства, науки и технологии, 2004.
87
Marx K. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852) // Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 11. New York: International Publishers, 1978. P. 99–197.
88
Об этом понятии см. подробнее в третьей главе и примечаниях к ней. – Прим. пер.
89
Письмо Теодора Адорно Вальтеру Беньямину, датированное 10 ноября 1938 года, в публ.: Benjamin W. Selected Writings. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997. T. 4. P. 100–101.
90
В оригинальном тексте здесь используется слово «rigorous» – «строгий», «тщательный», «дотошный», «скрупулезный», «точный», «четкий» и т. д. Вместе с тем следует иметь в виду, что автор применяет данный термин в сочетании со своим пониманием концепции «пылкого мышления» («passionate thinking»). Таким образом, речь в данном случае идет непосредственно о мыслителях-носителях «пылкого воображения», глубоко и от души преданных своему делу – т. е. «ревностных», «пламенных», «рьяных» мыслителях. – Прим. пер.
91
«В эстетической теории Ф. Шиллера игра стала показателем свободы творчества художника, соединяя его с бессознательным и не привязывая к реальности. Игра в творчестве помогает устранить противоречие между реальным и воображаемым и утверждает господство вымысла, который реализуется в творческой игре». См.: Стрельникова Л. Ю. Эстетическое учение Ф. Шиллера об игре в искусстве как ресурс современной западноевропейской литературы: преодоление классики // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2015. № 3 (35). С. 119–128. – Прим. пер.
92
В послесловии к русскоязычному изданию книги «Жизнь ума» философ и социолог Александр Фридрихович Филиппов пишет: «Те немногие, кого Кант однажды назвал „профессиональными мыслителями“, говорила Арендт в докладе „Мышление и моральные соображения“, „знали, что мышление по природе своей безрезультатно“, но писали они для многих, для тех, кто хотел видеть результат. Мышление, как Пенелопа, ткущая и распускающая покрывало, не останавливается. Оно преодолевает все состоявшееся, готовое и, по словам того же Канта, испытывает естественное отвращение к собственным результатам, принявшим вид „прочных аксиом“. Неостанавливающееся мышление – один из способов жизни духа, а также и смерть – живая, живущая смерть (living death), как говорит Арендт, разбирая Платона». См.: Арендт Х. Жизнь ума. СПб.: Наука, 2013. С. 494–495. – Прим. пер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: