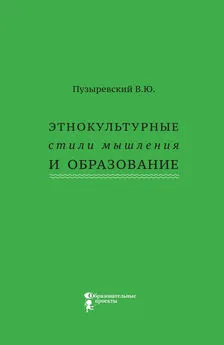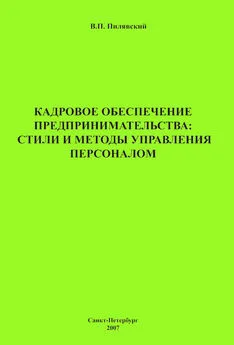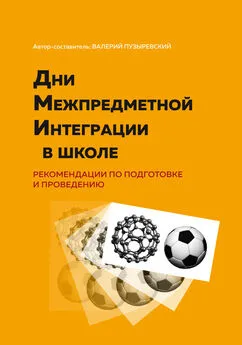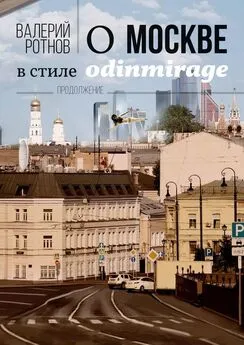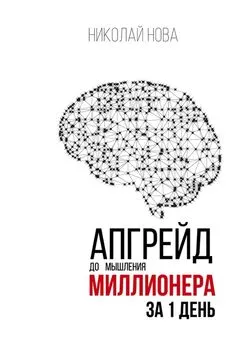Валерий Пузыревский - Этнокультурные стили мышления и образование
- Название:Этнокультурные стили мышления и образование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98709-512-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Пузыревский - Этнокультурные стили мышления и образование краткое содержание
Книга предназначена для студентов гуманитарных вузов, слушателей курсов постдипломного педагогического образования, а также всех интересующихся социокультурными проблемами образования.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Этнокультурные стили мышления и образование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, кроме данных этнографии, культурной антропологии, когнитивной культурологии, кросс-культурной психологии и сравнительной этнопедагогики, мы будем затрагивать также некоторые темы таких направлений, как культурная психология, психологическая антропология и этнокультурная психология, которые при том, что, очевидно, принадлежат общей сфере психологии и культуры, ставят, как показывает Д. Мацумото, собственные исследовательские акценты [10] Психология и культура/Под. ред. Д. Мацумото. СПб., 2003. С. 50–54;
.
А теперь вкратце обратимся к истокам. Систематика, предложенная в своё время К. Линнеем (см. Рис. 1 ), конечно, сегодня вызывает улыбку, поскольку основана на несколько поверхностных наблюдениях и учитывает преимущественно внешние биологические и поведенческие признаки. Это, кстати, лишь говорит о том, что сам метод сравнения ещё находился в стадии становления, становления научной правильности, порядка из хаоса. «Для установления самого простого порядка, – писал в «Словах и вещах» Мишель Фуко, – необходима «система элементов», то есть определение сегментов, внутри которых смогут возникать сходства и различия, типы изменений претерпеваемых этими сегментами, наконец, порог, выше которого будет иметь место различие, а ниже – подобие. Порядок – это то, что задаётся в вещах как их внутренний закон, как скрытая сеть, согласно которой они соотносятся друг с другом, и одновременно то, что существует, лишь проходя сквозь призму взгляда, внимания, языка; в своей глубине порядок обнаруживается лишь в пустых клетках этой решётки, ожидая в тишине момента, когда он будет сформулирован» [11] Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 32–33;
.
Ждать активного заполнения матрицы и типологических формулировок пришлось довольно долго. Соответственно и понятие этнокультурного стиля мышления сформировалось значительно позже первых полевых этнографических исследований. По сути дела, начало систематических кросс-культурных исследований было положено миссионерской деятельностью католической церкви, а также колониальной политикой европейских государств и развитием позитивистской науки (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и др.) середины XIX – начала ХХ вв. То есть появилось не только больше возможностей сравнивать культуры, но и сравнивать их с помощью методов таких социально-фактологических наук, как социология, психология, антропология и этнография. Именно в это время появляются самые общие понятия этнопсихологии – психология народов, национальный характер, народный дух и термин этническая психология (Х. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт, Г. Лебон и др.) [12] Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999. С.9;
.
В 1920-х гг. вместе со становлением школы культурного детерминизма Франца Боаса, Рут Бенедикт и Маргарет Мид появляются первые сравнительные исследования по этнографии детства, методология и техника которых, по признанию самих учёных, оставляли в то время желать лучшего. Но это был прорыв, позволивший такого рода исследованиям становиться всё более междисциплинарными [13] Кон И.С. Маргарет Мид и этнография детства//Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988. С. 402–407;
. С.А. Токарев указывает на знаменательность того факта, что «как раз в 1930-1940-е годы подавляющее большинство «антропологов», т. е. этнографов, предпочитало печатать свои статьи в психологических, психиатрических, социологических журналах; в собственных же этнографических органах, и в главном из них – журнале «American Anthropologist» – публиковалась лишь ничтожно малая часть статей принципиального содержания» [14] Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М., 1978. С.274;
. В 50-70-х гг. внимание к зависимости стиля воспитания от этнокультурного стиля мышления усилилось благодаря работам Б. Уайтинг, Дж. Уайтинга, У. Ламберта, Г. Уиткина, Дж. Берри и др. [15] Кон И.С. Ребёнок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). М., 1988. С. 20–39; Кросс-культурная психология. Исследования и применение. Харьков, 2007. С. 156–161;
Импульс движению в этом направлении придал и первый съезд Международной ассоциации кросс-культурной психологии, состоявшийся в Университете Гонконга в августе 1972 года.
Проблема стиля мышления, рассматриваемая в этнографии и таких её направлениях, как культурная экология и психологическая антропология, смыкается с культур-психологией и тесно связана с проблемой типологии культур. Понятно, что тип культуры это некая удобная для науки абстракция, обобщение совокупности реальных характерных черт этноса и его культуры. Вопросу от чего зависит формирование такой совокупности характерных черт, тех или иных этнокультурных особенностей посвящены работы крупнейших этнографов. И в центре их внимания – социально-экологические, хозяйственно-территориальные (экономико-географические) факторы.
Вот, к примеру, Франц Боас, получивший классическое образование по физике и математике в университетах Германии конца XIX века, в письме от 2 января 1882 года писал «о своём намерении оставить физику и психофизику, которыми он занимался, и посвятить себя географии и, в частности, изучению таких вопросов, как взаимодействие между жизнью народа и его физической средой, влияние конфигурации земли на знания народа о своих близких и дальних соседях» [16] Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли с американской этнографии. М., 1980. С.70;
. За этим он в своё время и отправился в Арктику, а затем по результатам поездки написал монографию «Баффинова земля», где жизнь эскимосов объяснялась влиянием географической среды. «Самую большую главу он назвал, следуя Ф. Ратцелю [17] Подробнее о культурно-географическом учении Ф. Ратцеля см. Марков Г.Е. Немецкая этнология. М., 2004. С. 52–67;
, «Антропогеографией»» [18] Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли с американской этнографии. М., 1980. С.71;
. Но его энтузиазм по поводу прямой географической обусловленности не был окончательным. В 1911 году он корректирует свои взгляды и признаётся: «Географическая среда может влиять на культуру, но результаты этого влияния будут зависеть от культуры, на которую она воздействует» [19] Цит. по: там же. С.86;
. При этом Боас понимал культуру не как существующую вне общества её носителей и самодвижущийся организм, а как то, что движимо реальными людьми, воспитанными в определённой традиции и живущими в определённой духовной и материальной среде, созданной предшественниками. «Мы должны помнить, – писал он, – что, как бы ни было значительно влияние, приписываемое нами окружающей среде, это влияние может проявляться, лишь будучи оказываемо на ум, так что характерные черты ума должны входить в получающиеся в результате формы социальной активности» [20] Боас Ф. Ум первобытного человека. М., 2011. С. 90–91;
.
Интервал:
Закладка: