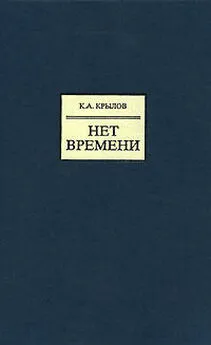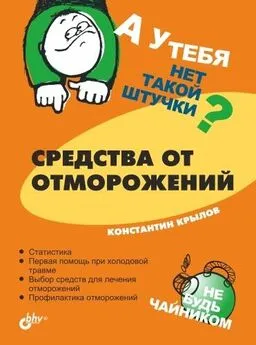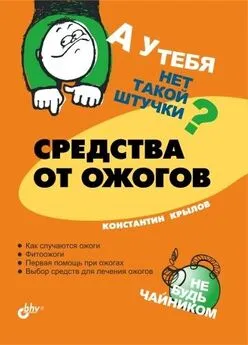Константин Крылов - Нет времени
- Название:Нет времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Владимир Даль
- Год:2007
- ISBN:5-902565-08-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Крылов - Нет времени краткое содержание
Константин Крылов — один из интеллектуальных лидеров российских "новых правых". Последовательный русский националист, радикальный критик российской политической и культурной реальности — и блестящий публицист и литератор, чье творчество стало одним из самых ярких явлений духовной жизни России начала нового века.
В сборнике представлены тексты, посвященные культуре в самом широком ее понимании — начиная от рецензий и литературных обзоров и кончая некрологами. Автору удается соединить крайнюю злободневность с глубиной мысли и обращенностью к "последним вопросам" человеческого бытия.
Нет времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А в «Поэтике ранневизантийской литературы» ссылки на «классиков» отсутствовали как класс. «Вы представляете, чего ему это стоило?» — объяснял мне книжный спекулянт, пасшийся возле знаменитого «букиниста» в Столешниковом переулке, пытаясь всучить мне «Поэтику».
Следует иметь в виду: в самой книжке (о которой речь впереди) не было ничего крамольного, кроме трёх абзацев с очень мягкой критикой «экономического детерминизма» — все, конечно, понимали, «про что речь», но это ещё не выходило за пределы дозволенной фронды. Так что это самое «чего стоило!» воздавало должное не смелости автора (были и посмелее), но — красоте жеста .
Впрочем, красивые жесты чередовались с осторожными. То же самое название книжки про византийское христианство — «Поэтика» — было знаковым: оно означало его вписывание в остроумную конвенцию между советскими гуманитариями и советскими идеологическими органами, согласно которой можно было заниматься «в том числе и сомнительными вещами», при условии не называть их прямо, а придумывать пристойные эвфемизмы. В результате получили импульс к развитию интереснейшие гуманитарные жаргоны — «квазиэстетический» и «квазинаучный». Например, занятия «структурализмом и семиотикой» получили кличку «трудов по вторичным моделирующим системам», с соответствующим птичьим языком. С другой стороны, восьмитомник Лосева по античной философии получил название «История античной эстетики», а Лихачёв выпустил «Поэтику древнерусской литературы». Все эти «эстетики-поэтики» (читай: «цветочки-лютики») были симулякрами, не столько призванными обмануть цензуру, сколько показать ей безобидность своих занятий: «мы тут плюшками балуемся, товарищ начальник».
По какой-то непонятной причине среди чарли-чаплинских фильмов нет ленты (ну или хотя бы эпизода) — Чарли на минном поле . Так и видишь: вот Чаплин рассеянно пинает взрыватель мины, и тот со звоном отлетает, не причинив вреда; вот он бросает за спину окурок, и там что-то взрывается, но осколки летят в другую сторону; вот он уже почти наступил на опасное место, но тут у него развязывается шнурок… и так далее. Аверинцев в своих играх с «советскими» демонстрировал примерно такой класс игры. Разумеется, за всем этим стояли вполне продуманные поведенческие стратегии, скрытые от глаз публики. Аверинцев выстраивал своё поведение — сознательно и аккуратно, он знал механику этих игр, знал, где можно нажать, а где нужно сдать, и так далее. Тот же вопрос со ссылками на «классиков» был, разумеется, «решён на нужном уровне». Но на поверхности всё выглядело именно что «легко и небрежно». И даже догадываясь, что эта лёгкость и небрежность наигранная, публика всё равно аплодировала.
Впрочем, иной раз случается и спотыкаться. Например, в семидесятом году разразился неприятный внутриакадемический скандал, связанный с выходом пятого тома официозной «Философской энциклопедии».
Аверинцеву там принадлежала статья «Христианство», из текста которой слишком уж сильно выпирало то, что её автор — никакой не «научный атеист».
Христианство Аверинцева — отдельная важная тема.
В ту эпоху «быть христианином» (православным, а того пуще инославным) означало быть инакомыслящим. Но инакомыслящим с совершенно особым статусом, о котором придётся сказать подробнее: сейчас эти тонкости уже не очень памятны, а то и вовсе непонятны.
Православная церковь была почти единственной организацией, существовавшей легально и при этом официально признанной «отделённой от государства». Цена этой отделённости — особь статья, но это был совершенно неубираемый пунктум, освящённый авторитетом Владимира Ильича Ленина, на оной отделённости сильно настаивавшего.
Поэтому с верующими нельзя было обходиться так же, как с прочими «несознательными». Так, некоторые важные для православных мероприятия — скажем, крёстный ход — приходилось разрешать. Правда, публику отвлекали от этого всякими разными способами: например, пускали «как раз в этот день» по телевизору музыкальную программу, где показывали «даже Скорпионс и саму АББУ». Но это была именно заманка, а не прямой административный запрет.
Соответственно любой активный верующий рассматривался как своего рода легальный диссидент. Наказать непосредственно «за крестик на шее» не представлялось возможным — зато устраивали всякие негласные обструкции. Особенно плохо приходилось людям видным и популярным.
Сергей Сергеевич мог «заниматься христианством» легально — в качестве византиниста, а также как специалист по ветхозаветному иудаизму. Но — «заниматься», а не «быть».
Кстати, о Византии как теме. Византинистика — дисциплина крайне неблагодарная, особенно на фоне того чёрного пиара, который был сделан на Западе для второго извода Римской Империи и который был всосан русской общественностью. Тон был задан чаадаевскими строками: «Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии…» . Отношение к Византии как «жалкой и презираемой этими народами» (читай — европейцами, то есть Хозяевами Дискурса, в том числе и научного) так и осталось. Плюс к тому же уровень и качество знаний, потребных для серьёзного занятия византийской проблематикой, всегда был очень высок. В целом получалось, что заниматься Византией — всё равно что изучать «средневековую Венгрию»: нужно учить невероятно сложный язык, разбираться в тёмной и непонятной, как история мидян, истории, чтобы потом всю жизнь ковыряться в каких-то никому не интересных вещах… «То ли дело la belle France».
Огромная заслуга Аверинцева состоит в том, что он сделал Византию модной. В самом лучшем смысле этого слова: статус византистики поднялся неимоверно, причём не только в глазах специалистов, но и широкой публики, не чуждой «запросов». «Поэтику ранневизантийской литературы» читали примерно как «Мастера и Маргариту» — брали на день-другой у друзей, ксерили (как самиздат) или покупали за хорошие бабки. Средняя цена на хороший экз. у «спекулей» в начале восьмидесятых была где-то 60 рэ, но особо жаждущие брали и за стольник. Это был успех, масштабы которого сейчас трудно даже вообразить.
Но вернёмся на прежнее. Аверинцев, конечно, был христианином «меневского склада». То есть, попросту говоря, экуменистом, филокатоликом и юдофилом.
Сейчас всё это звучит банально и даже нелестно, но тогда это была позиция понятная и оправданная. Его филокатолицизм и юдофилия оправдывался традицией, то есть соответствующими убеждениями русских религиозных философов, прежде всего Владимира Соловьёва и Вячеслава Иванова. То есть всё это было в высшей степени интеллектуально и респектабельно. Сейчас, когда прокатолические симпатии стали модными, а юдофильство строго обязательным, как марксизм-ленинизм, это всё может вызвать не самые лучшие чувства. Но надо делать скидку на Zeitgeist. Аверинцев и в самом деле любил католичество, как высшее проявление любимой им западной культуры (которая для него была Культурой Вообще), и искренне преклонялся перед евреями и всем еврейским — преклонялся, причём, не по обязанности, а зряче, разбираясь в детальках и входя в тонкости. Кто-то в своё время назвал Аверинцева «евреем honoris causa», и это было остроумно, точно и не обидно ни для одной из сравниваемых сторон.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: